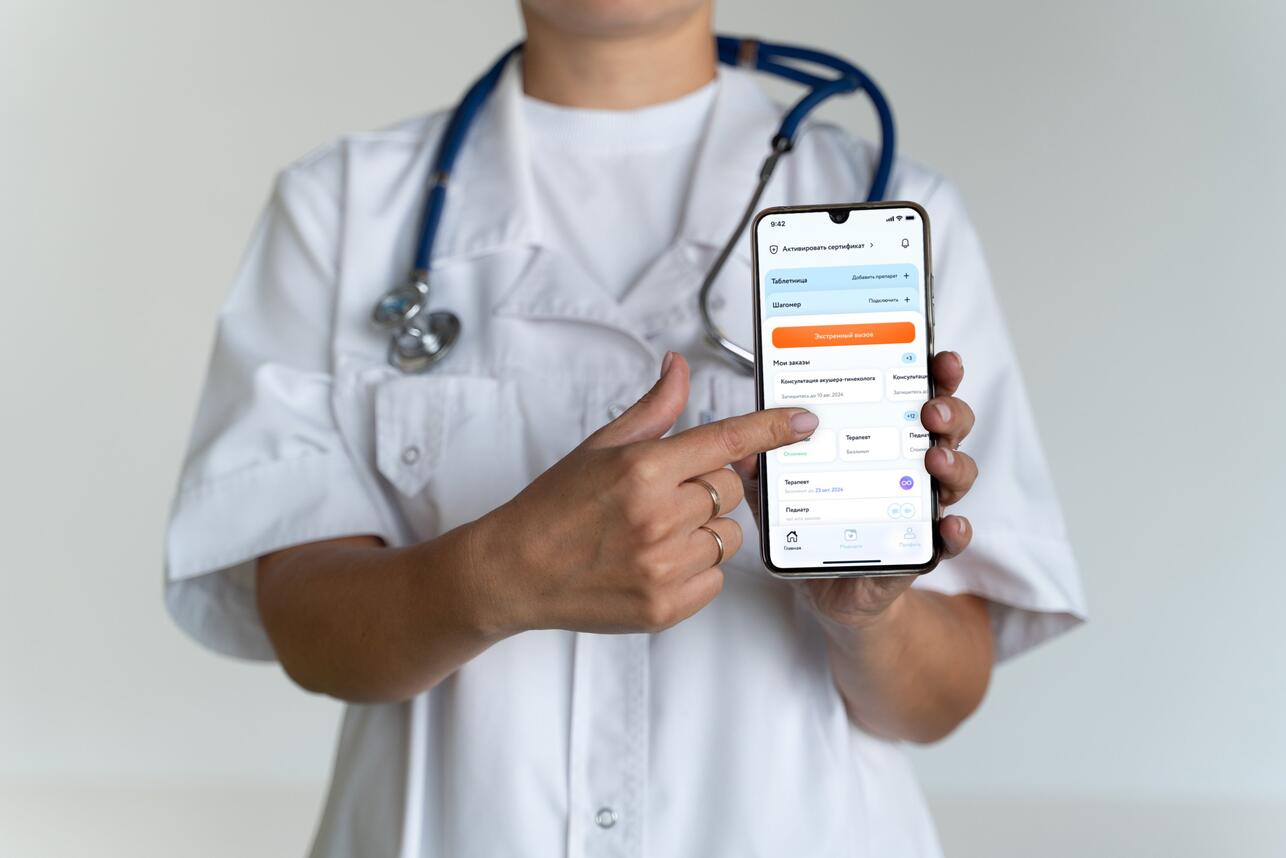«Как-то пожаловалась Теодоросу: вот, репетирую Шекспира со студентами, не знаю, что получится. Он ответил: «Ты не знаешь? Да все ты понимаешь. Помни только, в трагедии один закон — никогда не разговаривай со зрительным залом. Забудь, только с Богом!» А мы же всегда стремимся повернуться лицом к зрителю. Простая, казалось бы, вещь, но так переворачивает все у тебя внутри — тело, мозги, подачу».
— Наталья Николаевна, не так часто вы соглашаетесь дать интервью. Поэтому начну с вопроса о том, как решили стать актрисой.
— Все остальное получалось у меня хуже, хотя пыталась заниматься разными вещами. Я родилась в городе Горьком, теперь это Нижний Новгород. Сначала мама привела меня в бассейн, я там страшно мерзла и очень хотела есть. От бассейна вскоре отказалась и пошла на гимнастику. После первой тренировки мышцы болели так, что подумала: зачем мне это надо, сколько еще ходить на цыпочках, чтобы освоить красивые упражнения? Ушла. Через какое-то время попросилась в кружок рисования. Там сразу стало ясно, что я рисую хуже всех. Понимала: надо искать что-то другое.
И в итоге пришла в школьный драмкружок — так, стихи почитать. Его вела старшеклассница, и что-то она во мне разглядела, сказала: «Я должна отвести тебя к своему педагогу во Дворец пионеров». И тут я наконец-то вошла в свою реку. Руководитель театральной студии Лариса Николаевна Лебедева сразу задействовала меня в сказке, нас тогда еще и показало горьковское телевидение. Поскольку Лариса Николаевна преподавала сценическую речь в нашем театральном училище, предложила: «Давай, детка, готовиться к поступлению». Я с большим энтузиазмом взялась за дело, но в глубине души сомневалась: где я, а где театральное училище? Актерская профессия для людей из каких-то других семей, моя — очень простая.
— Чем занимались ваши родители?
— Мама в основном домом, периодически где-то подрабатывала: шла то пол помыть в библиотеке, то посидеть в лифтерке. На ней были дом, мой младший брат Миша, я. В мамины обязанности входило пироги печь, готовить, убирать, огород копать на наших сотках. Папа работал водителем на лесовозе, потом окончил техникум, руководил мелиорацией в совхозе в пригороде.
Когда я объявила родителям, что намерена поступать в театральное училище, они сразу сказали решительное «нет»:
— Ты чего, Наташа, какое театральное?
Тогда я выдала угрозу:


— Если вы меня не пустите, уеду на БАМ.
Это прозвучало настолько убедительно, будто в свои 15 лет сбегу в стройотряд, что папа с мамой сдались. Мама сказала:
— Да пусть идет, кто ее туда примет?
— С чем поступали?
— Поскольку я тогда была худая, маленькая, с торчащими коленками, читала стихотворение Агнии Барто: «Было лето, пели птички... Павлик ехал в электричке», а еще монолог Наташи Ростовой и басню «Две собаки» — небогатый репертуар. Помню, как члены приемной комиссии засмеялись, обрадовалась: наверное, они видят во мне способности. Один спросил:
— А кто твоя любимая артистка?
И я, такой щенок с бантиками, выпалила:
Им стало еще смешнее, и меня приняли. А Мордюкова по сей день остается для меня недосягаемой вершиной, мощнейшим талантом.
— Как вас видели ваши мастера?
— Руководил курсом мой любимейший Борис Абрамович Наравцевич, не бывает дня, чтобы я о нем не вспоминала. Вторым педагогом стала Рива Яковлевна Левите, мама Жени Дворжецкого. С Женей мы дружили с детства, он прибегал за меня болеть, когда поступала, а я не смела спросить, как его мама высказывалась о моих способностях, считала, что неприлично.
Меня педагоги видели инженю, молодой героиней. На втором курсе я уже выходила на сцену горьковского ТЮЗа, где Борис Абрамович был главным режиссером. Там поставили мюзикл «Дюймовочка», где я играла заглавную героиню, со страху пела, семь потов с меня сходило. Смеюсь над собой: я не певица вообще, не такая, как моя подруга Оля Лапшина, я и за столом промолчу. Но получается так, что постоянно получаю роли, где приходится петь. Нашими дипломными спектаклями стали «Пять вечеров» и «Обыкновенное чудо», где я играла принцессу, а мой прекрасный партнер Андрюша Ильин — Медведя.

Вообще собрался очень сильный курс, нас правильно замесили педагоги. Мне было так приятно читать большое интервью Андрея, где он говорил, что лучшим в его жизни режиссером стал Борис Абрамович Наравцевич. Многие наши однокурсники работают в профессии: и Сережа Земцов в Школе-студии МХАТ, и Юра и Таня Шайхисламовы в театре «У Никитских ворот», и Андрей Шарков в БДТ...
После училища меня приняли в Горьковский академический театр драмы, проработала там полгода и ощутила перспективу: какие-то роли будут. А что дальше? Замуж, дети, шесть соток и квасить на зиму капусту? Я хотела расти, но поняла, что мне тут тесновато, надо ехать в Москву.
Мы с Андрюшей Ильиным ездили показываться в столичный ТЮЗ, два цыпленка с дипломами артистов, нам казалось, мы настолько хороши, что возьмут сразу. Театром тогда руководил Юрий Жигульский, и нас даже не пропустили дальше служебного входа: идите, мол, отсюда с богом.
Но в Горьковское театральное училище председателем экзаменационной комиссии приезжал ректор Школы-студии МХАТ Вениамин Захарович Радомысленский. На нашем курсе он выделил пять человек, меня в том числе, пригласил: «Приезжайте, Виктор Монюков набирает студентов, вы будете у него учиться». То есть дал гарантию, справку, что нас возьмут. Но Ильин и Шайхисламов отправились работать в Ригу, Ира Бурунова решила вообще не ехать: только закончили — и опять учиться? Меня это не пугало, учиться было весело. Тебя все любят, все хотят в тебе что-то отрастить, в голову вложить, радуются твоим успехам, все на тебе сконцентрированы. Сегодня цитирую своим студентам Островского: «Уж так меня никто любить не будет». Я за своими детьми так не следила, как за учениками: как он там вдруг задышал? В итоге ехать в Москву решились я и Сережа Земцов.
— Как вы оказались в Щукинском училище? Почему не сложилось со Школой-студией?
— Потому что встречать меня на вокзал пришел Женя Дворжецкий. Он оканчивал первый курс Щукинского, мы крепко дружили. Встретил с юмором:

— Ну что, все-таки приперлась, Дунька, в Европу?
— Да, — говорю, — Дунька не Дунька, сейчас предъявлю свою справку и стану учиться в Школе-студии МХАТ.
— Какой еще МХАТ?! — сказал Женька. — Как это, я буду в «Щуке», а ты во МХАТе? Ты чего, у нас прекрасный педагог Катин-Ярцев набирает студентов, это лучшее, что может быть.
— А ничего, что мне придется поступать к нему на общих основаниях?
— А ты разве не поступишь? Короче, — говорит, — иди в свой МХАТ, я тебя туда не поведу.
А я не представляю, куда идти. Стою с чемоданом, с поезда, где ночь провела в плацкарте, и не знаю, как поступить. В итоге отправилась с Женькой в «Щуку». На прослушиваниях сидела Людмила Максакова, помню только красивую блузку и красивую женщину, с флером из какой-то другой жизни. Почитала ей. Она удивилась, что я дипломированная артистка, пошла, поговорила с Катиным-Ярцевым, он тоже меня послушал и сказал: «Приезжай сразу на третий тур». Так я стала студенткой Щукинского училища.
Юрий Васильевич никогда никого не выделял, на меня смотрел со своим фирменным хитреньким прищуром. Однажды бросил такую фразу: «Ну что, кошка, все гуляешь сама по себе?» До сих пор ее расшифровываю. И с огромной любовью и благодарностью вспоминаю своих преподавателей, особенно Владимира Владимировича Иванова и педагога по художественному чтению Аду Васильевну Пушкину.
Дипломный спектакль «Лисистрата», где я сыграла заглавную роль, поставил режиссер Андрей Мекке, который сегодня живет в Германии. Он был хорошо сделан, мы играли с удовольствием.
— Почему вас не взяли в Вахтанговский?

— Не только меня. По неизвестным причинам, потому что кто-то с кем-то не дружил, наш курс даже не показывался в Вахтанговский.
Ну а дальше «Лисистрату» пришел смотреть главный режиссер Московского Нового драматического театра Виталий Викторович Ланской. После спектакля сказал: «Я тебя беру».
— Как сложилась ваша творческая жизнь в театре?
— Ланской меня любил, ему все во мне нравилось, ему хотелось что-то со мной ставить. Чего обычно боятся в театре: если режиссер что-то предлагает или все время занимает тебя в своих постановках, значит, ты обязана его «отблагодарить». За всю свою жизнь я ни разу не столкнулась с харассментом, чтобы кто-то потребовал: на экран — через диван. Никогда!
Еще брали в Театр на Малой Бронной, но не сложилось: у меня не было московской прописки. Ланской выбил мне, как сейчас говорят, временную регистрацию. Прописали в общежитии театра неподалеку от железнодорожной станции Лось, выделили там комнату. Театр по сей день находится в конце Ярославского шоссе. Добираться туда сложно, метро до сих пор нет.
— Долго там проработали?
— Сезона четыре. Сложилась хорошая труппа, увы, сегодня многих уже нет с нами. Я рано стала хоронить своих друзей. Жизнь в эпоху перемен оказалась какой-то недолгой. Когда прочитала китайскую мудрость «Не дай вам, боже, жить в эпоху перемен», подумала, что не могу с этим согласиться: мне так интересно жить! У меня нет никакого негатива по отношению к лихим девяностым, мне нравится это время, когда стали открываться форточки и впускать свежий воздух. Никогда не думала, что смогу побывать в Австралии, Америке. Меня в Болгарию-то не пустили — не прошла парткомиссию, которой показалось, что я недостаточно глубоко освоила речи тогдашнего руководителя страны Тодора Живкова. А мне так хотелось поехать и привезти наконец себе приличные кроссовки и джинсы!
Мои друзья не погибали от бандитских пуль или передоза. Однокурсника Мишу Семенова, которому было всего 33, сразил инфаркт. Женя Дворжецкий разбился в автокатастрофе, Саша Ливанов, перебравшийся в Лондон, в 40 лет сгорел от онкологии, так же как Маша Зубарева и Ира Метлицкая... Помню их всех, таких лиц сегодня почти нет...
— В связи с чем вы перешли в Театр имени Станиславского?

— Ланской ушел из Нового и забрал меня с собой. В Новом начались протесты, бунт случился не только во МХАТе. Виталию Викторовичу высказывали на собраниях труппы, будто довел театр до ручки и персонально виноват в том, что к нам никто не ходит. Он не стал оправдываться, держаться за место и уволился.
Главный режиссер Театра имени Станиславского Сандро Товстоногов пригласил его поставить спектакль. Ланской сказал:
— Хочу взять на главную роль артистку Павленкову.
Товстоногов возражал:
— У нас тоже есть хорошие артистки, попробуйте их.
Ланской попробовал и снова пришел к Сандро. Тот махнул рукой: «Ну ведите вашу Павленкову, посмотрим, что она за актриса». Посмотрел и предложил: «Приходите работать в наш театр».
— В свое время Наталья Варлей рассказывала, что этот театр, атмосфера в труппе оставили у нее самые негативные воспоминания. Как приняли вас?
— Хорошо. После буйного молодого театра я будто попала в какой-то санаторий: актеры труппы были в основном людьми в возрасте. Майя Менглет приняла меня нормально. С Лидией Васильевной Савченко я вообще дружила, постоянно слышала: «Кошка, иди сюда, талантливая...» Савченко была шикарным человеком от природы. В конце жизни написала книгу, дала мне почитать рукопись, я взяла исключительно из большого уважения. Что такого, думала, артистка может написать. Ночь не могла оторваться от этой книги. В ВТО обещали ее издать, не знаю, выполнили ли обещание. Помню, как Савченко сидела и говорила мне: «Хорошая ты, кошка, артистка, фарта нет». Она тоже была недорассказанная, хотя играла много. Когда этот фарт у меня появился, первое, что я сделала, подняла голову к небу и сказала спасибо Лидии Васильевне.
Они были щедрыми людьми. Я сыграла ввод в «Танго» Мрожека, после спектакля иду по Тверской и вижу, как меня обгоняет Игорь Григорьевич Козлов, разворачивается и кричит: «До свидания, хорошая артистка!» Ну разве сравнится что-то с такими словами, тем более когда тебе говорит их коллега, а ведь я только пришла в театр. Тогда поняла, как это важно: артисты не щедры на комплименты, в горле застрянет сказать своему товарищу, как он классно все сделал. Когда услышала похвалу от Игоря, дала себе слово: буду поступать так же, если кто-то из коллег мне понравится. Посмотрела в Центре Казанцева и Рощина «Смерть Тарелкина», где играл тогда еще никому не известный Тимофей Трибунцев, и дождалась его на служебном входе, чтобы сказать: «Вы очень хороший артист».

— В моей практике это большая редкость. Однажды артистка вычеркнула из текста интервью даже фамилии ушедших актрис Театра Моссовета, которые относились к ней там по-доброму.
— Чтобы не отсвечивали рядом, лучше буду один в темном царстве? Не-е-ет! Если есть возможность отправить в небеса свое спасибо моим коллегам, стараюсь это делать. Спасибо Боре Невзорову, что был не только моим партнером, но и хорошим человеком, до сих пор вспоминаю, как однажды вместе отдыхали с его женой Настей у ее мамы в Сочи. Рома Мадянов играл в Театре Станиславского в спектакле «Куба — любовь моя». У меня не было с ним общих сцен, просто стояли рядом. Признавалась ему: «Как прекрасно ты сыграл, у меня мурашки бегали по спине!» С Ромочкой было так хорошо. Он тоже был еще и чудесным человеком...
Когда я проработала в Театре Станиславского год, Сергей Иванович Яшин позвал меня к себе в Театр Гоголя. Обожала его как режиссера, он ставил спектакль и позвал меня и Борю Невзорова. Когда объявила в Театре Станиславского, что ухожу, Товстоногов пригласил к себе: «Павленкова, зайдите в кабинет. Вы что, с ума сошли?! Кто будет играть Ирину у меня в «Трех сестрах»?» И предъявил мне целый список мировой драматургии, который собирался поставить, занимая меня. Подумала: ладно, посижу еще год. Осталась, ушла в отпуск. Когда вернулась, нам объявили, что Товстоногов уволился, уехал в Питер.
— Актерская профессия конкурентная, неслучайно в свое время Ширвиндт назвал театральную труппу террариумом единомышленников.
— Моя особенность, что я этого не вижу. Никто никогда не склонял меня к сожительству, не сыпал стекло в тапки. Всех вспоминаю только с благодарностью. Когда тяжело заболел мой муж, я даже не подозревала, что меня так любят: все кинулись в репконтору, понесли деньги, чтобы мне помочь. А люди в театре небогатые.
Прихожу на спектакль — завтруппой вручает мне внушительную сумму. Спрашиваю:
— От кого это?
Она отвечает:
— Приказали молчать.

Я настаивала:
— Роза, а тебе не кажется, что я должна хотя бы заказать этим людям благодарственный молебен или просто прийти в храм и попросить: «Господи, погладь их по голове, я им очень благодарна»?
И она сдалась:
— Только не выдавай меня.
Это были Максим Суханов и Александр Самойленко, они как раз играли спектакль у нас в театре. Ребята тоже учились в Щукинском, были младше, по традиции обслуживали наши дипломные спектакли. Мы не дружили, просто были знакомы. Я открыла дверь в их гримерную, Максим меня заметил и выставил руку: все, не надо, выходи!
А по поводу зависти... Чему было завидовать? Я работала много, но успеха это не приносило. В девяностые людям было не до театров. Помню, играем дневной спектакль «Таланты и поклонники» Островского, стоим на сцене и слышим, как раздается с Тверской, где проходит демонстрация: «Ельцин, Ельцин!» Какой театр, какой Островский?!
Ланской поставил «Дачников» Горького, очень хороший спектакль. Его посмотрел Эдвард Радзинский и высказался, что зрители этой постановки уже уехали.
Роман Козак пришел худруком и поставил «Дон Кихота», прекрасный спектакль с Феклистовым, Золотовицким, задействовал старую гвардию — Савченко, Анисько, Сатановского и меня из молодых. Мы были в восторге, утром приходили, пели, разминались. На репетициях сидела переводчица с немецкого, предполагались гастроли по Германии. Сатановский в перерывах лежал и шутил: «Если эта хрень не поедет в Германию, я его придушу». Когда моя мама посмотрела спектакль, сказала: «Ничего лучше, чем ваш «Дон Кихот», не видела». А залы пустые. То есть я работала в Новом драматическом, где не редкостью были пустые залы, зритель туда не доезжал. Потом перебралась на Тверскую — и у меня снова пустые залы.
Наступило время, когда вроде бы все можно. Пришел Александр Вилькин, прекрасный режиссер, чудесный, азартный, умный, парадоксальный, с таганкинской закваской, ставить «Процесс» Кафки. Все принялись репетировать с большим энтузиазмом. Но кому в девяностые был нужен Кафка? Энергии у людей хватало только на протесты, митинги, а дальше — наквасить капусты, наварить картошки и выпить спирта «Рояль».

— Что-то для вас изменилось, когда Театр Станиславского стал Электротеатром?
— Я от этого вообще сепарировалась, не получала того, чему меня учили и куда я иногда взлетала в творчестве. С худруком Электротеатра Борисом Юханановым очень уважительно относимся друг к другу, однако оба понимаем: мы разные. Но это не то что я сижу и от всех предложений отказываюсь.
Мне было ужасно интересно, что это за великий грек Теодорос Терзопулос, пошла на кастинг. Однажды, когда уже стали работать, опоздала, он спрашивал: «А где эта артистка с глазами?»
В то время со студентами Щукинского института, где преподаю, я репетировала «Макбета», хотя очень от этого отбрыкивалась: ну где я, а где Шекспир?! Руководитель курса в меня верил, сказал: «Вы это сделаете». И я в тот момент буквально вгрызалась в Терзопулоса, его тренинги. Западная манера требует: у артиста должны быть голос, вокальные способности, мощное тело, дыхание. Театр Терзопулоса построен на целой системе: на дыхании, форме, содержании своего тела в порядке, чтобы работали разные этажи, чакры — и нижние, и грудные, и голова. То есть он, как Пифагор, принес мне некую теорему, создал систему, нарисовал график.
Как-то пожаловалась Теодоросу: вот, репетирую Шекспира со студентами, не знаю, что получится. Он ответил: «Ты не знаешь? Да все ты понимаешь. Помни только, в трагедии один закон — никогда не разговаривай со зрительным залом. Забудь, только с Богом!» А мы же всегда стремимся повернуться лицом к зрителю. Простая, казалось бы, вещь, но так переворачивает все у тебя внутри — тело, мозги, подачу. Терзопулос раскрыл мне множество таких секретиков. Он теплый, искрящийся человек, открывает актеров другим ключом.
— Кого еще из режиссеров вспоминаете?
— Когда в моей жизни появился Театр Наций, моя творческая душа туда устремилась и сказала: здесь теперь мой дом. Играла у режиссера Боба Уилсона в «Сказках Пушкина». Очень высокая культура спектакля.
В будущем году исполнится 50 лет, как я выхожу на сцену, но у меня в жизни не было такого спектакля, как «Сказки Пушкина». Мы стояли часами в гриме, костюмах, когда выставляли свет. Это была ручная работа, сделанная на высочайшем уровне культуры, знаний, уважения к автору, самому понятию «театр». Театр — не помойка, не подворотня, даже если спектакль об этом рассказывает.
Уилсон — создатель своего, авторского театра. Первое, что нам было сказано: вы приходите на репетицию в черном, или в белом, или в черно-белом. Никаких желтых, зеленых, красных одежд. Слышала, что Уилсон в прошлом аутист, который вылечил себя театром. На репетициях он сидит как король в своем хрустальном дворце, сам себя так позиционирует. Ты не можешь обратиться к нему: «Эй, Боб, хеллоу, есть парочка вопросов». Нет, он очерчен невидимой стеной. И никогда не выходит на сцену в обуви, разувается даже в репзале, и это не поза.

Однажды Боб поднялся на сцену и, проходя мимо меня, поощрительно похлопал рукой по плечу. Я чуть в обморок не упала, мне хотелось буквально закричать: «Это ты мне, Боб, это я что-то нормально сделала?!» Актеру очень важно любить и уважать режиссера. От режиссера, которого ты в грош не ставишь, не ценишь, не считаешь талантливым или хотя бы мастеровитым, знающим свою профессию, надо драпать, с такими работать нельзя.
Однажды дома что-то готовила, фоном работал телевизор, показывали вручение «Золотой маски», прислушивалась, кому за что дали, и вдруг уловила: «Маску» за режиссуру получает Андрей Могучий. Подумала: надо же взять себе такой странный псевдоним, не может же быть у режиссера такой фамилии. Ошибалась. Прошло время, и я пришла к нему на кастинг.
Подруга Ольга Лапшина позвонила и говорит:
— Слышала, актеров в новую постановку Могучего Circ Ambulante кастингуют?
— Не, не слышала.
— Так, собирайся, завтра идем.
Утром проснулась в сомнениях: мне 50 лет, я заслуженная артистка, доцент кафедры актерского мастерства Щукинского института — и ни разу в жизни не бывала на кастинге. Что мне надо будет делать: стихи режиссеру читать, басню? Прямо заставила себя пойти к Могучему.
Он попросил:
— Расскажите, что делали в театре.

— Гнала по залу драматическую волну, вот такое у меня амплуа.
Мы не сговариваясь захохотали, и все сразу встало на свои места. Он сказал: «Будем репетировать». Могучий очень боролся с моим драматизмом, требовал: надо играть отстраненно, более закрыто. А меня там во время моего монолога прямо разносило! Расстраивалась, не знала, что с этим делать. Сказала себе: все, я сухая земля. В Андрее очень много человека, не начальника. Я встретилась с большим, сердечным, теплым, с чувством юмора. Решила: теперь у меня есть лакмусовая бумажка. Если режиссер способен рассмеяться твоей шутке, иронии и вообще способен улыбаться, а не сидеть надутым и самовлюбленным, обрати, Наташа, на него внимание.
Моя любовь — Семен Спивак. Грохнулся Театр Станиславского, думала, ничего хорошего здесь не дождусь. И вдруг Спивак пришел ставить «Завещание по-итальянски». Летела к нему на репетицию и неожиданно остановилась: Господи, какая я счастливая! А я совсем не экзальтированный человек.
Не встречала артиста, который бы сказал: «Ой, репетировать со Спиваком так скучно!» Почему актеры настолько его любят? Да потому что он внутри тебя вышивает мелкой гладью. Если у артиста что-то не получается, Спивак уходит с репетиции думать о том, что он делает не так. Помню, Семен Яковлевич жил в гостинице «Минск», которая напротив Театра Станиславского. Уже перешел улицу и вдруг кричит, указывая в небо: «Я знаю, что надо сделать, Он мне позвонил!» Верю, ему иногда звонит Он.
Спивак — режиссер дотошный. Мы начали репетировать, я что-то мяукала тонюсеньким голоском, потому что все еще числилась в молодых. Многие артистки, которые не встречаются с таким режиссером, так и остаются до восьмидесяти лет Джульеттками.
Вдруг дома раздается звонок. Я поднимаю трубку и громким низким голосом говорю:
— Алло, говорите, я вас слушаю.
И вдруг слышу на другом конце провода Спивака:
— Так вот, Наташа, какой у вас настоящий голос!

Он весь состоит из творчества, весь в своих задумках. Спивак никогда не ставит спектакль, если не понимает, про что он, тема должна его волновать, душа болеть. Мне тогда как раз исполнилось сорок, и Спивак смог перевести меня из девичества в женский характер.
Я, как Агафья Тихоновна, однажды сказала: «Вот если бы к разбору Спивака, к его репзалу прибавить руки Мирзоева, чтобы он все это взял и перевернул с ног на голову, как было бы интересно». Владимир Владимирович приехал из Канады и начал ставить «Женитьбу». К нему вызвали меня, Лизу Никищихину, Сашу Феклистова. Мы идем по театру, меня все поздравляют с ролью Агафьи Тихоновны. Я скромно пожимаю плечами.
Володя говорит:
— Сейчас расскажу про распределение. Агафья Тихоновна — Лиза Никищихина.
Лиза:
— Вы что, с ума сошли, мне сто лет!
А он продолжает:
— Сваха — Павленкова.
Мы сразу поняли: затевается что-то интересное.

Но тогда я только родила своего Мишу и не смогла войти в репетиционный период. Еще мы с мужем забрали из Тбилиси в Москву его отца, ветерана войны без ноги. Ничего толком не объяснив Мирзоеву, по дурости отказалась от роли. Обойдется без меня какой-то приезжий режиссер из Канады. Сидела с сыном три года, случился единственный перерыв в моей театральной жизни. Даже Ланской сказал: «По-моему, мы потеряли артистку Павленкову».
А потом Мирзоев начал ставить «Семеро святых из деревни Брюхо». Я прочитала пьесу, пришла в восторг: тоже хочу здесь играть! Но Мирзоев меня не занимал. Тогда к нему обратилась подруга Лапшина:
— Володь, а почему не берешь Павленкову?
— Она не захотела со мной репетировать.
— Нет, Володь, что ты, просто у нее тогда ребенок родился.
В общем, меня допустили до репетиций. Мне было интересно самой вышивать внутри себя свою тему, биографию, болевые точки, характер, а Мирзоев задавал такие мизансценические решения и плел кружева, что становилось только увлекательнее.
— Вот и не верь, что настоящей дружбы среди актеров не существует.
— С Олей мы познакомились в Театре Станиславского. Она выбрала меня в подруги. Вместе репетировали у Спивака. Оля проверила, хорошая ли я артистка, и так мы с ней сблизились. А еще параллельно рожали, она — свою Машу, через три дня я — свою Яну.
— Как вам кажется, сегодня больше перспектив у таких театров, как Театр Наций, где актеры собираются на конкретный проект, или у репертуарных? За примерами недалеко ходить. У того же Андрея Могучего не так все безоблачно складывалось с труппой, когда он пришел в БДТ.

— Прекрасно говорит Оля Лапшина: «Театр — не богадельня». Кто решил, что в нем можно досиживать до пенсии? Я тоже работаю по договору, если ты требуешься — пригласят. Но если в этой больнице не нужен гастроэнтеролог, почему занимает кабинет? Где-то есть больница, где он нужен. Мы, к сожалению, цепляемся за крошечную зарплату в театре. А ведь сегодня можно найти себе применение, где-то ждут именно тебя. Размести свою фотографию в интернете, именно твое лицо в морщинах ищет какой-то кинорежиссер. А все сидят. Нет, я за контрактную систему, за то, что режиссер принимает решения, капитан на мостике должен быть один. Не нужны вы этому режиссеру — идите поработайте в другом месте.
Мы были не обучены заниматься своей карьерой. Сегодня говорю своим студентам: «Заявляйте о себе, стучитесь во все двери — я здесь, я готов играть». Это не стыдно, вы не просите денег, а заявляете о том, что готовы классно выполнить свою работу».
Нас учили со стыдом: будьте готовы, органичны, заразительны, умейте танцевать, петь, фехтовать, включаться с первой секунды. Ждите своего случая. Я была готова, но случай представился нескоро.
— Как вам поступило предложение начать преподавать?
— Мне стало скучно в Театре Станиславского. Умер Ланской. Я поймала себя на гаденьком чувстве, что с ужасом смотрю, есть я в распределении новой постановки или нет. Есть — хорошо. Нет — значит не нужна. Однажды вышла из театра и почему-то ноги привели меня к Щукинскому институту. Не возвращалась туда лет десять, хотя меня очень любили педагоги. Мне же казалось, что я не оправдала их надежд, не прославляю школу. У входа стоял Альберт Григорьевич Буров, заведующий кафедрой актерского мастерства. Заметил меня: «Батюшки, какие люди! Ну как ты, что поделываешь?» Я взрыднула ему в жилетку про то, как несовершенен мир. Он выслушал и сказал:
— Бери ручку, листок бумаги, пиши заявление. Пройдешь курс ассистентуры и будешь преподавать.
Я усомнилась:
— Нашли педагога! Я вам тут развалю всю театральную систему.
Буров был краток:

— У тебя все получится.
Так в поисках чистого источника, творчества я стала преподавать, подставлять руки, чтобы получалось у других молодых артистов.
— Вы выпустили не самых последних из них...
— Последних у меня вообще нет. Ирина Горбачева, Александр Горбатов, Дмитрий Чеботарев, Дарья Урсуляк, Владимир Яглыч и многие другие — места не хватит перечислить всех. Это только те, которые сейчас на большом слуху.
— С Горбачевой вы играете в спектакле «О любви и дружбе», который идет много лет.
— Это была студенческая постановка, где мать играла студентка Аня Сенина. Ребята ее очень любили и не захотели с ней расставаться. Их сокурсник Антон Торсуков обнаружил в себе продюсерский талант, стал развиваться в эту сторону. Через какое время позвонил: «Наталья Николаевна, выручайте, нам нужна мать». И я поняла: кто, если не я? Стала таскаться с ними по гастролям. Начинали робко, но ребята любили этот проект, в параллель стали развивать свои творческие биографии и делать себе имена.
Это не антреприза уха-ха, а тонкая вещь, основанная на прозе Злотникова, Петрушевской. Чудесно, что ребята не расстаются.
— Ваш кинематографический успех связан с именем режиссера Ивана Твердовского. За главную роль в его «Зоологии» вы получили приз «Кинотавра».
— Когда спросили, где я была все это время, почему успех в кино пришел в мою жизнь после пятидесяти, я сказала, что тогда еще Ваня не родился.

В своей дипломной картине «Снег» он хотел снимать Ольгу Лапшину. И мой «агент», мой ангел Лапшина сказала:
— Не могу в эти дни, бери Павленкову, она лучше меня сыграет.
— А кто такая Павленкова?
Ваня ничего про меня не знал. Говорит, что мы сразу друг другу не понравились, хотя я такого не помню. Помню, что, увидев его, произнесла: «Ой, какой большой мальчик». Ваня действительно крупный. Он потом вспоминал: «Сидела такая фифа, закинув ногу на ногу, и как-то так со мной разговаривала». Может, так проявилась моя защитная реакция. Он пронзил меня какой-то трогательностью, сел и за меня написал биографию моей героини. Признавался, что хотел позвонить еще кому-нибудь, но потом все же сказал:
— Приходите завтра на пробы.
— А еще пробы будут?
— Конечно, а как же? Только оденьтесь попроще и не красьтесь.
Я надела пуховый платок, мешковатое дутое пальто, какие-то старые сапоги. В общем, как просили, так и сделала. Ваня потом признавался, что глазам не поверил, когда увидел меня.
После съемок мы не расстались, он стал приходить ко мне в институт. Однажды встретились в кафе на Арбате. Что у молодого режиссера-выпускника, что у педагога Щукинского института — карманы пустые. Заказали большой чайник чая, долго сидели, просили подлить кипятка, курили, там разрешалось. Он жаловался, что нет новых предложений. Я успокаивала: терпи, жди. В общем, плакались друг другу в жилетки.

А потом карьера Вани пошла в гору: «Класс коррекции», «Зоология» — потрясающее кино о том, как мир не принимает того, кто ходит не с той ноги, «Подбросы», «Наводнение», «Конференция» — пронзительная история о людях, переживших «Норд-Ост»... Я снималась во всех этих фильмах Вани. Благодарна продюсеру Наташе Мокрицкой за то, что не вмешивалась в кастинг. Она уважала выбор режиссера, вообще с ним хорошо работала.
— Как вам кажется, что такого смог сказать о женской судьбе Твердовский, что пронимает зрительниц до слез?
— Снова вспоминаю Спивака, он говорил: «У меня опять получился спектакль о женщине. Женщины сложнее нас устроены, они, конечно, ближе к чему-то божественному». Я не знаю, как Ваня это делает, но после «Зоологии» на каждом показе в разных странах мира ко мне подходили женщины и молча гладили по плечу. Твердовский умел достать из меня то, о чем сама не догадывалась или хорошо прятала. На «Кинотавре» в коридоре гостиницы меня остановила горничная: «Вчера пролезла на показ вашего фильма, так обревелась, спасибо вам». Я была удивлена, ведь не играла в «Зоологии» трагической судьбы. Помню, снимали в Крыму, как я шла по улице с распущенным хвостом, который по сюжету вырос у героини. Группа смешалась с толпой и следовала за мной. Люди не знали, что снимается кино. Мне очень жаль, что эту проходку сняли со спины, там могли быть хорошие крупные планы моего лица. Я вдруг увидела, как люди мной брезгуют. Или кто-то проходит мимо равнодушно. Шла такая подубитая всеми этими событиями. Меня удивляло: никто не замечает, как мне плохо? Почему никто не скажет: «Держись, все нормально!»? На той улице поняла, как таким людям, как моя героиня, тяжело приходится в равнодушии и жестокости. Не знаю, откуда Твердовский все это берет.
— Вы снимались в нескольких фильмах Сергея Урсуляка. Как с ним работалось? Очень люблю «Ненастье».
— И я люблю. Мне кажется, что «Ненастье» — недооцененное кино, в отличие от «Ликвидации». Там прекрасный кинодебют Александра Горбатова.
А Сережа Урсуляк чудесный. Кстати, я сейчас поняла, что это единственный, наверное, мой взрослый режиссер. Меня такие режиссеры не видят, не любят, не хотят. Видят молодые мальчишки, которыми я горжусь: Твердовский, Битоков, Соснин. Мои ровесники меня не замечают, правда.
— Какие воспоминания оставили съемки в «Жене Чайковского»?
— Получила огромное удовольствие от той радости, которую мне подарил Кирилл Серебренников. Пришла на пробы, меня загримировали. Если увидите, как, — ахнете. Надели тщательно подобранный костюм, что-то прицепили на голову. Я играю тещу Чайковского, женщину-огонь, суровую тетку, Кабаниху. Кирилл — режиссер, который тщательнейшим образом создает атмосферу в кадре. Я вошла в комнату, где моя героиня живет с дочерями, и увидела, что над столом, усыпанным какими-то крошками, летают огромные мухи. Удивилась: как они сюда попали, в окно влетели, что ли? Нет, эти мухи — артистки, их выпустили из коробочки. Ты не можешь существовать в фильме поверхностно, если тебя так обложили.
Был день, когда мы ничего не снимали, репетировали 15-минутный кадр, весь съемочный день ушел на то, чтобы его простроить и снять одним планом.

Алена Михайлова, игравшая жену композитора, меня восхитила. Люблю хороших артистов, никому не завидую, потому что знаю: может, я артистка не самая лучшая, но так, как я, не сыграет никто. Как Алена работала, как была собрана, я прямо видела: Артистка.
— В прокат вышел фильм «Легенды наших предков», где вы снимались с Антоном Кузнецовым и Марьяной Спивак.
— Режиссер Иван Соснин осуществил мою мечту. Я устала играть женщин, которые хоронят близких, у которых кто-то тяжело заболевает. Сижу и думаю: хоть бы сказку кто предложил. И Иван как будто меня услышал, позвал сыграть Шишигу. Попросил записать самопробы. А я это очень люблю, потому что могу от души похулиганить. Продумала, что это за персонаж, душа моя развернулась, пробы отправила — и все, мы начали работать. С возрастом понимаешь, что не хочется тратить время на непрофессионалов. А Иван — человек, умеющий снимать кино.
С Антоном Кузнецовым мы из «Щуки», знали друг о друге, пересекались на дне рождения альма-матер, мило друг другу улыбались. Видела его спектакли в «Сатириконе», восхитилась им.
А то, как он концентрируется, собирается во время съемок, достойно уважения. За смену длиной 12 часов я не заметила, чтобы он с кем-то болтал, хохотал, расплескивался. Это же классно, когда артист не только одаренный, а еще и профессиональный.

— Где сегодня снимаетесь, что нового репетируете?
— Пока держу паузу. Второй год не репетирую в театре, нет особенных серьезных предложений. Но я умею ждать. В прошлом году снялась в интересных проектах «Между нами химия», «Мамонты», «Телохранители». Они пользуются успехом у зрителей. Сказала себе, что уже приземлилась на тот Байконур, с которого буду стартовать в космос, вдруг поняла, что вообще не жила. Я все время ехала на репетицию, потом сидела в пыльных кулисах, может быть, что-то подсказала в профессии своим студентам... Большое спасибо Твердовскому, я посмотрела мир. Но сейчас не хочу размениваться на несерьезное. Жизнь подсказывает, что лучше подождать, потерпеть, накопить энергию, собраться, чтобы потом бабахнуть по-настоящему заметной ролью.
— Ваш муж был врачом. Где вы его встретили?
— В доме моей подруги. Она говорила: «Гриша такой прекрасный, правильный, но никак не женится». Надо сказать, он недолго меня добивался, чудесный был человек.
Мне в жизни повезло с учителями и мужем. Гриша в моей судьбе все сформировал: двое детей, дом, мы купили квартиру в Крыму, чтобы летом туда ездить, собираться всей семьей. Если у меня премьера, Гриша нарядится и приходит с букетом. Я говорю:
— Зачем?
— Ну как я без цветов приду к тебе на премьеру?
А на «Семеро святых...» пришел даже с двумя букетами, второй — для Оли Лапшиной. Потом полночи разбирали спектакль. И так это было здорово, что мы смотрели в одну сторону! Дети на поминках вспоминали: «Мама с папой иногда так хохотали, а мы не понимали, над чем». Общее чувство юмора очень сближает. Гришу унесла тяжелая болезнь...
Наш старший сын Миша — продюсер социальной сети «ВКонтакте», дочь Яна — графический дизайнер. Несколько лет назад она перебралась в Израиль, вышла там замуж за Ариэля, я к ним езжу. Бабушкой пока не стала, но все впереди.