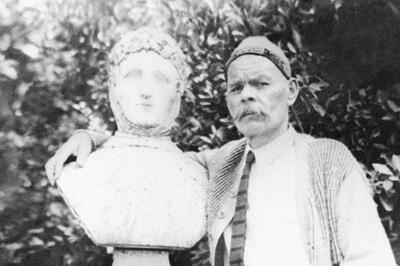Удивительно, сколько событий довелось пережить великому писателю в местах, где принято проводить бархатный сезон. Строительство и покупка домов, обустройство садов, врачебная практика... Создание бессмертных пьес. Гастроли Художественного театра — специально, чтобы навестить Чехова. И наконец, «гостевой брак» с Книппер-Чеховой, за время которого были написаны сотни писем.
Причины переезда писателя на юг известны. Весной 1897 года у него был окончательно установлен туберкулез легких, врачи предписали ему сменить климат. Обычно в такой ситуации богатые соотечественники ехали на европейские курорты. Зиму 1897—1898 годов Чехов тоже провел на Французской Ривьере. Но поселиться там для него было бы немыслимо. В письме Соболевскому он писал: «...без России нехорошо, нехорошо во всех смыслах... Из всех русских теплых мест самое лучшее пока — южный берег Крыма, это несомненно, что бы там ни говорили про кавказскую природу... В Крыму уютнее и ближе к России». В то же время известно, что Ялту писатель сразу не принял, первое его впечатление было неблагоприятным.
Антон Павлович писал своей сестре Марии Павловне: «...Ялта — это помесь чего-то европейского, напоминающего виды Ниццы, с чем-то мещанско-ярмарочным. Коробкообразные гостиницы, в которых чахнут несчастные чахоточные... эти рожи бездельников-богачей с жаждой грошевых приключений, парфюмерный запах вместо запаха кедров и моря, жалкая, грязная пристань, грустные огни вдали на море, болтовня барышень и кавалеров, понаехавших сюда наслаждаться природой, в которой они ничего не понимают, — все это в общем дает унылое впечатление...» Чуть позже — Суворину: «Тяжелых больных не принимают здесь ни в гостиницы, ни на квартиры, можете себе представить, какие истории приходится наблюдать здесь. Мрут люди от истощения, от обстановки, от полного заброса — и это в благословенной Тавриде. Потеряешь всякий аппетит и к солнцу, и к морю...»

Первое время Чехов жил в Ялте в частных пансионах. Потом начал подумывать о собственной даче. Неожиданная смерть отца, Павла Егоровича, в октябре 1898 года ускорила решение этого вопроса. Чехов продает имение в Мелихове и приобретает участок земли в Ялте, в конце Аутской улицы. Это далеко не центр... Но и на такой участок деньги едва удалось собрать. Антон Павлович вынужден был продать издателю авторские права на свои произведения, получая доход лишь от пьес.
Сразу же писатель решил создать на своем участке цветущий уголок. Целыми днями он возился в саду, сажая деревья, кустарники, цветы. Он вел большую переписку с садоводствами по поводу присылки ему различных сортов деревьев и цветов, и ему отовсюду посылали саженцы и семена. Особенно много посадил Чехов в своем саду роз — их было выращено до ста сортов, многие из них он впервые прививал в Крыму. Писатель Куприн вспоминал: «Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами: «Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого, но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место... Знаете ли, через триста-четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна...». Конечно, в этих словах мы узнаем его героев. Того же Астрова, который сажал леса и говорил, что через сто, двести лет люди будут жить по-другому...
Дом был построен быстро, меньше чем за год. И поскольку он был белого цвета, то и назвали его «Белой дачей». Архитектура для тех мест была необычной — асимметричной, с башенкой, верандой и террасой, с разноразмерными окнами. Однако все здесь было продумано. Писатель предусмотрел в доме удобства для всех: для матери, сестры, многочисленных гостей и даже прислуги. Строительство дома длилось десять месяцев, а обошелся он писателю почти в 25 тысяч рублей. Пока достроили дом, сад уже рос. Помогал с обустройством придомовой территории Антону Павловичу садовник Арсений — молодой человек из местных. До того как прийти к Чехову, он работал в Никитском ботаническом саду, поэтому Антон Павлович, несомненно, доверял ему уход за своим садом.

Скучал без гостей, но уставал от них
В те годы добраться до Ялты было непросто, и, казалось бы, такое местоположение должно было отрезать писателя от сообщества. Но нет! Дом Чехова притягивал культурных людей — ехали к нему. Здесь бывали Горький, Куприн, Бунин, Станиславский, Немирович-Данченко, Левитан, Шаляпин. Левитан во время одной из таких встреч за полчаса написал для Чехова картину, которая до сих пор украшает главную комнату дома. Куприну Чехов очень помог. Александр Иванович писал в воспоминаниях о Чехове: «...Один начинающий писатель приехал в Ялту и остановился где-то за Ауткой, на окраине города, наняв комнату в шумной и многочисленной греческой семье. Как-то он пожаловался Чехову, что в такой обстановке трудно писать. И вот Чехов настоял на том, чтобы писатель непременно приходил к нему с утра и занимался у него внизу, рядом со столовой. «Вы будете внизу писать, а я наверху, — говорил он со своей очаровательной улыбкой, — и обедать будете также у меня. А когда кончите, непременно прочтите мне или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуре».
Этим начинающим писателем и был сам Куприн. Иорданская-Куприна вспоминала, что Куприн рассказывал ей: «И каждое утро к 9 часам я приходил на дачу Чехова работать над своим рассказом «В цирке». Мои денежные дела были в самом плачевном состоянии. Перед отъездом в Ялту я сдал несколько мелких рассказов в «Одесские новости». Присылка гонорара запаздывала, я сидел без гроша и поэтому особенно стеснялся оставаться обедать у Чеховых. Но Антон Павлович видел меня насквозь, и, когда я начинал уверять, что хозяйка ждет меня с обедом, он решительно прерывал меня: «Ничего, подождет, а пока садитесь за стол без разговоров. Когда я был молодой и здоровый, я легко съедал по два обеда, а вы, я уверен, отлично справитесь и с тремя».

В результате писатель оказался примерно в такой же обстановке, как в Москве. «Белая дача» всегда полна друзей, в гостиной без остановок играет музыка. И Чехов, у которого есть план по писательской работе, не может уединиться, потому что друзья и знакомые требуют его внимания. Кроме того, влюбленные дамы-поклонницы, прозванные домашними «антоновками», часто появлялись на пороге чеховского дома и просили прочесть их рассказы. Газетчики, начинающие литераторы, коллеги-врачи, новые знакомые из местных — все мечтали увидеть Чехова, поговорить, напроситься на чаепитие.
В отчаянии Антон Павлович пишет брату Александру: «Вместо дачи за собственные деньги в Крыму умудрился возвести тюрьму!» А сестре говорит: «Едва я за бумагу, как отворяется дверь и вползает какое-нибудь рыло. Пытаюсь скрываться от гостей в спальне, но и это не помогает». Зимой поток посетителей стихал. В Ялте Чехов написал и «Даму с собачкой», и «Вишневый сад», и «Три сестры». Антон Павлович очень грустил и скучал по Москве. В столице с успехом шли премьеры его пьес, жизнь кипела. Конечно, он приезжал в Москву. Там на одной из репетиций «Чайки» писатель познакомился с актрисой Художественного театра — своей будущей женой Ольгой Книппер. Его женитьба стала большой неожиданностью для близких.
Сестра Мария вспоминала: «В мае 1901 года Антон Павлович уехал в Москву, чтобы показаться там врачу, а потом поехать полечиться на кумыс. И вот получаю я от него из Москвы письмо, в котором он сообщает, что доктор Шуровский велел ему немедленно ехать на кумыс в Уфимскую губернию. «Ехать одному скучно, — писал он, — жить на кумысе скучно, а везти с собой кого-нибудь было бы эгоистично и потому неприятно. Женился бы, да нет при мне документа, все в Ялте на столе». Через день мы в Ялте получили такую телеграмму: «Милая мама, благословите, женюсь. Все останется по-старому. Уезжаю на кумыс. Адрес: Аксеново, Самаро-Златоустовской. Здоровье лучше. Антон».

Станиславский вспоминал об этом дне так: «Однажды Антон Павлович попросил А. Л. Вишневского устроить званый обед и просил пригласить туда своих родственников и почему-то также и родственников О. Л. Книппер. В назначенный час все собрались, и не было только Антона Павловича и Ольги Леонардовны. Ждали, волновались, смущались и наконец получили известие, что Антон Павлович уехал с Ольгой Леонардовной в церковь, венчаться, а из церкви поедет прямо на вокзал и в Самару, на кумыс. А весь этот обед был устроен им для того, чтобы собрать в одно место всех тех лиц, которые могли бы помешать повенчаться интимно, без обычного свадебного шума. Свадебная помпа так мало отвечала вкусу Антона Павловича. С дороги А. Л. Вишневскому была прислана телеграмма».
Позже Чехов написал близким такое письмо: «Здравствуй, милая Маша! Все собираюсь написать тебе и никак не соберусь, много всяких дел, и, конечно, мелких. О том, что я женился, ты уже знаешь. Думаю, что сей мой поступок нисколько не изменит моей жизни и той обстановки, в какой я до сих пор пребывал. Мать, наверное, говорит уже Бог знает что, но скажи ей, что перемен не будет решительно никаких, все останется по-старому. Буду жить так, как жил до сих пор, и мать тоже; и к тебе у меня останутся отношения неизменно теплыми и хорошими, какими были до сих пор...»

Близкие поначалу ревниво отнеслись к женитьбе Чехова, но потом обаятельная Ольга Леонардовна их очаровала. К тому же их успокоил тот факт, что она не собиралась переезжать в Ялту и жить с ними вместе в доме. Вообще же в те годы многие знакомые не верили в искренность этого брака. Они знали отношение писателя к семье. «Жениться я не хочу, да и не на ком. Да и шут с ним. Мне было бы скучно возиться с женой. А влюбиться весьма не мешало бы. Скучно без сильной любви», — писал он в письме к Суворину.
Любовь, а скорее влюбленность, но не сильная, не мешающая творчеству, нужна была Чехову для создания свежих сюжетов, для вдохновения: «Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грез, — на земле только она одна может дать счастье!» «Я не способен на такое трудное и сложное для понимания дело, как брак, и роль мужа пугает меня», — писал Чехов.
Из письма Суворину: «Дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день».
Иван Бунин о женитьбе писателя сделал такой вывод: «...Да это самоубийство! Хуже Сахалина... Они (сестра Мария и жена Книппер. — Прим. ред.), горячо и самозабвенно любя его, уложат-таки в гроб милейшим образом».

Коллеги судачили, что Ольга Леонардовна намеренно вышла замуж за писателя, чтобы получить главные роли в его пьесах и обеспечить Немировича-Данченко репертуаром. Действительно, в каждой пьесе Чехова, которые ставились в МХТ, Ольга играла главную роль, но, по мнению многих, заслуженно... Почти все время своего брака Чехов жил вдали от жены. «Если боитесь одиночества, то не женитесь», — писал он. Из-за работы в театре Ольга Книппер не могла часто приезжать к мужу, который, в свою очередь, редко посещал столицу из-за болезни. Большую часть времени они провели в переписке и написали друг другу более 800 писем. Однако супруга по мере возможности старалась навещать Чехова в Ялте. В доме писателя у нее была своя комната на первом этаже, где она оставалась, приезжая в Крым на гастроли и в отпуск.
Чехов писал жене: «Я получил анонимное письмо, что ты в Питере кем-то увлеклась, влюбилась по уши. Да и я сам давно уж подозреваю, жидовка ты, скряга. А меня ты разлюбила, вероятно, за то, что я, человек неэкономный, просил тебя разориться на одну-две телеграммы...» Но это были шутливые письма. Он понимал, что без своей профессии она не может жить. В только что созданном Немировичем-Данченко и Станиславским Художественном театре в Москве с большим успехом шли пьесы Чехова «Чайка» и «Дядя Ваня», но сам автор не видел спектаклей. В исторический для Художественного театра день 17 декабря 1898 года, когда шла премьера «Чайки», Антон Павлович находился в Ялте. Сюда к нему пришли телеграммы и письма о триумфальном успехе его пьесы. Не было Чехова и на премьере «Дяди Вани». По поводу этой премьеры Чехов писал своей будущей жене Книппер: «...Вы спрашиваете, буду ли я волноваться. Но ведь о том, что «Дядя Ваня» идет 26-го, я узнал, как следует, только из Вашего письма, которое получил 27-го. Телеграммы стали приходить 27-го вечером, когда я был уже в постели. Их мне передают по телефону».
Ради Чехова Художественный театр приехал в Ялту

Весной 1900 года Художественный театр, артисты которого так полюбили Чехова, решился на небывалое по тому времени путешествие: было решено поехать в Ялту, чтобы показать автору постановки его пьес. Станиславский вспоминал: «Артисты, их жены, дети, няни, рабочие, бутафоры, костюмеры, парикмахеры, несколько вагонов имущества, в самую распутицу, двинулись из холодной Москвы под южное солнце». Антон Павлович поехал навстречу театру в Севастополь, где должно было состояться несколько спектаклей. Здесь впервые Чехов посмотрел «Дядю Ваню». «...На спектакль он приходил всегда задолго до начала, — вспоминал Станиславский. — Любил прийти на сцену смотреть, как ставят декорации. В антрактах ходил по уборным и говорил с актерами. У него всегда была огромная любовь к театральным мелочам — как спускают декорации, как освещают, и, когда при нем об этих вещах говорили, он стоит, бывало, и улыбается...»
«Чайка» в Севастополе также имела огромный успех. По окончании севастопольских спектаклей Художественный театр пароходом прибыл в Ялту. Для гастрольных спектаклей был подготовлен ялтинский городской театр, стоявший на том же месте, где и в настоящее время находится. В Ялте Художественный театр дал восемь спектаклей, в том числе «Чайку» и «Дядю Ваню». Эти дни были одним из самых светлых и радостных периодов жизни Чехова. «Спектакль «Чайка» имел шумный успех, — вспоминал писатель. — После спектакля собралась публика. И только я вышел на какую-то лесенку с зонтиком в руках, кто-то подхватил меня, кажется, это были гимназисты. Однако осилить меня не могли.

Положение мое было, действительно, плачевное: гимназисты кричат, подняли одну мою ногу, а на другой я прыгал, так как меня тащили вперед, зонтик куда-то улетел, дождь лил, но объясниться не было возможности, так как все кричали «ура». А сзади бежала жена и беспокоилась, что меня искалечат. К счастью, они скоро обессилели и выпустили меня, так что до подъезда гостиницы я уже дошел на обеих ногах. Но у самого подъезда они захотели еще что-то сделать и уложили меня на грязные ступеньки».
Книппер-Чехова пишет в своих воспоминаниях: «...Переехали в Ялту... нас буквально засыпали цветами... Артисты приезжали часто к Антону Павловичу, обедали, бродили по саду, сидели в уютном кабинете, и как нравилось все это Антону Павловичу, — он так любил жизнь подвижную, кипучую, а тогда у нас все уповало, кипело, радовалось». В числе прочих в гостях у Чехова побывали Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд, Качалов. Мария Павловна Чехова вспоминала: «Двери нашего дома в эти дни не закрывались. Все артисты во главе с Владимиром Ивановичем и Константином Сергеевичем, а также и приехавшие писатели почти беспрерывно находились у нас. Завтракали, обедали, пили чай, и лишь к вечеру в нашем доме затихало, когда все уезжали на спектакль. У Антона Павловича все это время было веселое, приподнятое настроение.

Смех, шутки, остроты, веселье царили тогда в нашем доме. А иногда за столом разгорались серьезные разговоры о литературе и театре. Помню и Горького в эти дни с его интересными рассказами о своей жизни; Алексей Максимович был тогда очень популярен. Останавливалась у нас в доме и будущая жена Антона Павловича Ольга Леонардовна, много помогавшая мне в хлопотах по приему гостей».
Между прочим, Чехов уговорил Горького приехать к этому времени в Ялту для того, чтобы познакомить его с Художественным театром и побудить его написать для театра пьесу. После этой встречи с артистами Художественного театра Горький и принялся за драматургию, написав свою первую пьесу — «Мещане», а затем и вторую — «На дне». Немирович-Данченко вспоминал: «У Чехова двери дома на все это время были открыты настежь. Вся труппа приглашалась обедать и пить чай каждый день. Если Горького не было там, значит, он где-нибудь, окруженный другой группой наших актеров, сидит на перилах балкона, в светлой косоворотке с ременным поясом и густыми непослушными волосами, внимательно слушает, пленительно улыбается или рассказывает, легко подбирая образные, смелые и характерные выражения... Горький был чрезвычайно захвачен и спектаклями, и духом молодой труппы...».
Открыл санаторий, который до сих пор работает

Со всех концов России стекались в Ялту малоимущие бедняки, заболевшие туберкулезом. Вот только условия их жизни там не способствовали исцелению. Многие приезжали без гроша в кармане, особенно учащаяся молодежь, студенты. О покупке места в дорогостоящих частных пансионах и лечебницах они не могли и мечтать. Обратиться в Ялте им было некуда, и они шли к известному писателю Чехову за советом, за помощью. Чехов очень много способствовал устройству больных через ялтинское благотворительное общество «Попечительство о приезжих больных», членом которого он состоял, но общество само было бедно. Антон Павлович пришел к мысли о необходимости создать в Ялте общедоступный санаторий, в котором малоимущие туберкулезные больные могли бы лечиться за небольшую плату. Чехов решил начать сбор пожертвований и так собрать необходимую сумму денег.
В письме к Тараховскому он писал: «...Одолевают приезжие чахоточные; обращаются ко мне, я теряюсь, не знаю, что делать. Придумал воззвание, собираем деньги, и если ничего не соберем, то придется бежать вон из Ялты». Чехов рассылает свое воззвание друзьям, знакомым, редакциям газет и просит их принять участие в сборе средств. Это же воззвание Антон Павлович посылает Горькому, жившему тогда в Нижнем Новгороде, с просьбой распространить его через нижегородские и самарские газеты. Горький тотчас же опубликовал и присоединил к нему свое послесловие. Когда средства были собраны, «Попечительство о приезжих больных» купило только что построенную на окраине Ялты дачу и устроило там санаторий «Яузлар». Теперь это широко известный ялтинский санаторий.
Сбежал от друзей в Гурзуф

Как ни весело было принимать друзей в доме, Чехов все чаще задумывался о тайном убежище — месте, где бы он мог спокойно работать в одиночестве. Живописный поселок Гурзуф привлек внимание драматурга еще в самый первый приезд на полуостров. Потрясающие пейзажи, тишина... В 1900 году Чехов приобретает у татарина-рыбака небольшой домик. Покупка обошлась в три тысячи рублей, что было очень дорого, но писатель отдал всю сумму, не торгуясь. Воодушевленный приобретением, Антон Павлович пишет своей сестре в письме: «Я купил кусочек берега с купаньем и с Пушкинской скалой около пристани и парка в Гурзуфе. Принадлежит нам теперь целая бухточка, в которой может стоять лодка или катер. Дом паршивенький, но крытый черепицей, четыре комнаты, большие сени. Одно большое дерево — шелковица». Самое большое преимущество — открытая веранда. Небольшой дворик был совсем голый, что обрадовало Чехова, так как он любил сажать сады. В июле 1900 года несколько счастливых дней здесь провела ведущая актриса Художественного театра Ольга Книппер. На небольшом кусочке пляжа можно было купаться и ловить рыбу, что Чехов очень любил.
Расстояние между Ялтой и Гурзуфом — всего 16 верст. Сюда легко и быстро добирались на пассажирском мальпосте — прообразе современных автобусов. В хорошую погоду курсировал по морю катер три раза в день. Имелся прекрасный ресторан, а также продуктовая лавка и аптека. С 1889 года Гурзуф был соединен с Ялтой телефоном, работали почта и телеграф. Ольга Леонардовна несколько раз порывалась бросить театр и уехать в Крым, чтобы помогать и ухаживать за больным Чеховым. Антон Павлович не соглашался. Зимой 1903 года Чехов едет в Москву. Здесь с триумфом проходит премьера «Вишневого сада». Ольга Книппер играет Раневскую.
По возвращении в Ялту писателю становится хуже. Летом жена уговаривает Чехова поехать в Баденвайлер на консультацию к германским врачам. Прогнозы неутешительные, но Чехов бодрится и шутит. Шьет себе летний костюм, чтобы вернуться и носить его в Ялте. Как известно, домой писатель не вернулся...

...А что же стало с «Белой дачей» после? По завещанию Чехова, дача в Гурзуфе отошла его жене, а «Белая дача» вместе с деньгами писателя и всеми будущими доходами от издания произведений — его сестре. Уже в 1921 году, при советской власти, Мария Чехова открыла здесь музей. Долгие годы она являлась хранительницей наследия. А с началом войны специально поехала сюда, чтобы защищать дом. «Последний раз я была в Москве 41-го. Весной до июня месяца... Разговоры о войне тревожили... и я поспешила скорее домой. В Ялте я тоже застала беспокойство, но как-то не верилось в возможность войны... Я ходила по всему дому, не знала, с чего начинать, как готовиться. Обдумывала, куда и что отправлять. А дом? Дорогой для меня дом. Если его разобьют и вещи расхитят? На что мне моя жизнь, если ее цель погибнет? Нет, буду бороться, защищать, насколько сил хватит. И я осталась... Начала прятать все, что могло пропасть. И вот восьмого ноября пришли враги, но к нам нагрянули не сразу. Первыми явились квартирмейстеры — итальянцы и что-то написали мелом на парадной двери. Вскоре же появились немцы, человек пять, и вошли прямо в кабинет.

Я спустилась вниз и тоже вошла в кабинет. Из них один хорошо говорил по-русски, и он заявил: «Вот здесь наш майор, — показывал на письменный стол, — будет заниматься, а в этой спальне он будет отдыхать»... Я ответила им, что эти две комнаты нельзя занимать, что это «музеум» и что я могу предоставить майору другое помещение... Стали рассматривать фотографии и увидели фотографию Гауптмана, которого я на всякий случай выставила, т. к. раньше она была перед войной убрана. «О, Гауптман, Тшехов!» Я провела их в столовую и заперла кабинет и спальню. Ключ положила в карман. Мне удалось убедить их, что Бааке (такая была фамилия их майора) может занять столовую, галерею и балкон, выходящий в сад. Они согласились. А кабинет и спальня во время пребывания немцев были заперты...»

Более того, майор приказал своим людям разместить перед входом табличку «Собственность майора Бааке», что ограждало весь музей от любых посягательств на протяжении периода оккупации. Большинство исследователей сходятся на том, что особое отношение к Чехову было связано с более чем особым отношением фюрера к его родственнице, звезде немецкого кинематографа Ольге Чеховой. Как известно, она хлопотала о судьбе дачи и даже летала в Ялту, чтобы увидеть Марию Павловну. К счастью, священное имя писателя оградило Марию Павловну Чехову от вопросов, почему во время оккупации она весьма плотно общалась с немцами и принимала у себя иностранцев. Что касается гурзуфской дачи, Антон Павлович ее завещал Ольге Леонардовне. Актриса приезжала сюда отдыхать каждое лето вплоть до 1953 года.