Подходит ко мне кавказец: «Что ти третий день мерзнэшь? Нэ продашь. Ми тебе нэ дадим продать. Давай продавай мнэ и уходы. Иначе будет плохо. Вот деньги, и ты уходишь. Понял, да?»
Я отдал ему свои семечки почти задарма и пошел устраиваться на работу.
Мне очень хотелось пойти на распиловку, но в отделе кадров сказали: «На распиловке мест нет, иди в грузчики». Тут я выложил свой козырь: «В самодеятельности участвовал…» — «Иди в клуб. Если завклубом возьмет тебя в самодеятельность, пойдешь на распиловку».
В те годы я не разговаривал, а «хаварил» — у меня был сильный украинский говор.
Нашел завклубом, сказал, что приехал из Украины и хотел бы «похаварить» — показать, как читаю стихи. Начал читать басню Михалкова «Заяц во хмелю»:
«В день именин, а может быть, рожденья
Был заяц прихлашен к ежу на ухощенье…»
Показал пьяного зайца. Завклубом сказала: как творческая единица я никуда не гожусь и придется работать грузчиком.
Дали мне койку в комнате, где жили бичи. Каждый вечер они играли в карты и пили, а напившись, кричали мне: «Эй, интеллигент! Иди, выпей с нами!»
Отвечаю: «Спасибо, не пью». Я еще был трезвенником: лежу, читаю Чехова.
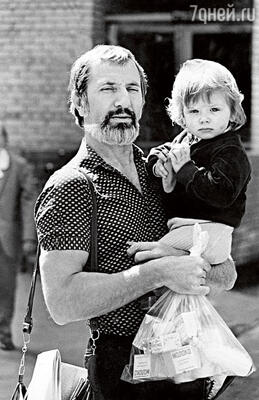
Напившись, бичи бросали в меня пустые бутылки. Я закрывался одеялом, а они ржали. Вечер терпел, два терпел, наконец взбеленился. Тогда я был здоровенным, накачанным и однажды вскочил, разметал их стол и погнал одного из зачинщиков на улицу. Зима, холодно, босиком мы несколько раз оббежали вокруг барака, пока он не юркнул в какую-то щель. Больше меня никто не трогал.
В напарники мне дали долбанутого Юру. Все знали, что Юра — сумасшедший: мы с ним грузили деревянные щиты, и ему доставляло необъяснимое удовольствие столкнуть меня с рельсы так, чтобы тяжелая тележка переехала мою ногу. Я падал, а Юра жутко веселился.
В Маймаксе я впервые увидел северное сияние. Это нечто переливающееся и исчезающее, невероятно красивое, словно сделанное из блестящей бумаги.
Как-то я смотрел на него, разинув рот, и в этот момент Юра наехал на меня груженой тележкой. В результате я сильно покалечил ногу, несколько дней не мог ходить. Всего я проработал месяца два, сорвал вены на ногах — они стали толщиной в палец — и взял расчет.
За это время я сильно исхудал: зарплата мизерная, жрать было нечего. Я покупал конфеты — подушечки с вареньем, хлеб и чай, вот и вся еда. Рассчитавшись, поехал в Москву, к родственникам. Дядя Ваня устроил меня в Институт переливания крови: мне хотели сделать операцию, но выяснилось, что у меня какой-то не такой билирубин, и от операции отказались.
В Институте переливания крови меня полюбили. Я и пел, и плясал, и, немилосердно «хекая», декламировал басни со стихами.
Один профессор, милый человек, живший рядом с Большим театром, начал приглашать меня к себе в дом. Там на меня собирали гостей: я читал стихи и басни, «хаварил» анекдоты… Гости рыдали от хохота и просили: «Витя, приходи опять!»
Контраст с жизнью дяди Вани был разительным: его семья жила в коммуналке; там в шестнадцатиметровой комнате обитали пять человек, я — шестой. Спали на нарах, мое место было под потолком.
Вскоре после того как я вернулся в Русскую Поляну, пришло письмо от маминого брата, торгового начальника: «Шура, пусть Витька едет поступать во Львов. Я ему всегда банку варенья передам, если станет сильно голодать». Львов показался мне очень красивым, но холодным и чужим.
Сперва я решил поступать в Политехнический. Пришел сдавать документы, там — огромная очередища. «А где нет очереди, чтобы документы сдать?» — «В Полиграфическом институте. Там и конкурс маленький».
До этого я и понятия не имел, что такое полиграфия. Пришел в институт, понял: это что-то связанное с типографиями, — и сдал документы. Каким-то чудом поступил на технологический факультет. Жил в общежитии на стипендию в 21 рубль и умудрялся быть стилягой. Покупал китайские зеленые штаны, отдавал их перешивать и натягивал с мылом. Носил дешевые ботинки на «манной каше», делал кок — и фланировал по бульвару Шевченко. О том, какой я плохой, даже в газетах писали.
Вел я себя безобразно (видимо, пошел в отца) и до сих пор не понимаю, почему меня не отчислили.



























