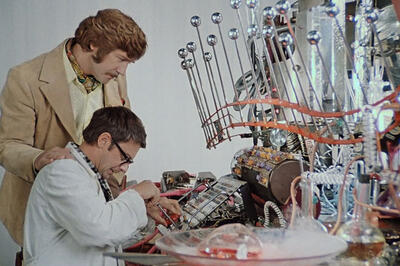«Пырьев однажды стоял передо мной на коленях. Да-да! Это было уже после «Идиота». Звонок с киностудии: с вами хочет поговорить Иван Александрович, приезжайте. За мной присылают машину. И вот вхожу в кабинет Пырьева. Вдруг он вскакивает из-за стола, падает перед мной на колени: «Умоляю, сыграй в новом фильме Рязанова!» Журналист Олег Перанов много лет общался с Юрием Яковлевым, и сегодня мы публикуем последнее интервью с этим прекрасным актером.
В последний раз народный артист СССР Юрий Яковлев вышел на сцену осенью 2013 года, буквально за пару месяцев до своего ухода из жизни. К тому времени в его репертуаре оставалась только одна роль — в спектакле «Пристань». Эту постановку режиссер Римас Туминас выпустил к 90-летию Театра имени Вахтангова. Тогда на сцене можно было увидеть старожилов труппы Владимира Этуша, Юлию Борисову, Василия Ланового, Людмилу Максакову, Вячеслава Шалевича и, конечно, Юрия Яковлева. Народные артисты играли отрывки из разных произведений Достоевского, Пушкина, Брехта... Юрий Васильевич выходил на 15 минут в роли Николая Алексеевича в «Темных аллеях» по Бунину.
«Все проходит, мой друг. Любовь, молодость — все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о воде протекшей будешь вспоминать», — рассуждал герой.
И в нашем последнем разговоре, который состоялся перед его 85-летием, чувствовалось некое разочарование в профессии и в людях — все проходит.

Мы встретились у него дома в районе старого Арбата. Устроились в небольшой комнате-кабинете, где тускло горела настольная лампа: Юрий Васильевич признался, что любит полумрак. Он рассказывал, обращаясь даже не ко мне, а куда-то в темное окно, и это было в чем-то похоже на исповедь. Мягкий, тихий, бархатный голос. Паузы с закрытыми глазами. Большой перстень на пальце. Периодически он снимал очки. И печаль, некая усталость в глазах.
— Я давно завязал с разного рода съемками, после долгого перерыва согласился только сыграть в продолжении «Иронии судьбы...». Долго отказывался — опять этот надоевший мне Ипполит... Но Эльдар Александрович Рязанов упросил, — вздыхал тогда Яковлев. — Неделю мы снимали в Праге, там почему-то дешевле оказалось. А вообще — ну нет ни малейшего желания, потому что предлагают муру, сериалы вроде «Ментов». Оригинальных сценариев я не получаю. Да и с театром... Хватит, наигрался. Из постановки Петра Фоменко «Без вины виноватые» давно ушел, потому что считаю, что спектакль устал. Двенадцать лет играл в нем. Простите, что так говорю о своих коллегах, но они уже не те исполнители в этой постановке. И Сорина в «Чайке» давно не играю.
Но то, что работы сейчас мало, никак на меня не влияет. Я совершенно не чувствую себя ущемленным. Никаких негативных чувств по поводу своей так называемой невостребованности не испытываю. Вам признаюсь: острого желания сниматься в кино или играть каждый день в театре у меня уже нет.
Это не усталость, это некая переоценка ценностей. Я всю жизнь занимался театром, и когда-то было ощущение, что жить без него не могу. Именно театр у меня был на первом месте, а потом уже семья. А сегодня я понял, что могу жить без актерства: дача, жена, дети, внуки, собака — столько всего меня радует. Хотя, когда выхожу один раз в месяц на сцену, все равно испытываю блаженство, настроение повышается. Но...

Знаете, я вот иногда рассматриваю глянцевые журналы, вижу, как тот или иной артист, снявшись в одном сериальчике, покупает себе роскошный дом, хвастается им на всю страну, сам себя называет звездой, и удивляюсь. Чтобы нас в свое время называли звездами! Это был бы нонсенс, да и слово такое мы считали ругательным. В нашей профессии многое изменилось, и не в лучшую сторону. Часто молодые люди приходят в актерство только с желанием славы, денег. Мы же об этом никогда не думали, хотелось только работать. Какой для меня был праздник, когда в Театре имени Вахтангова я впервые вышел в спектакле «Два веронца» по Шекспиру в небольшой, но смешной роли Турио! Меня же в театр взяли сначала как комика, это уже потом я вышел в герои.
Хотите честно скажу? Я ведь однажды серьезно задумывался о том, чтобы уйти из профессии, и эти сомнения продолжались четыре года. Помню, мне тогда исполнилось пятьдесят два. А это возраст критический для актера, когда ты уже не молод, но еще и не стар. И я почувствовал, что какая-то трещинка образовалась внутри меня. Стал задавать себе вопрос: «А зачем я в этой профессии?» Да, я уже был узнаваемым, много лет играл в театре, много снимался, все звания уже получил. Но настроение вдруг очень испортилось. Еще скажу по секрету: тогда вышел фильм Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» с Олегом Табаковым в главной роли. А я со студенческих лет мечтал сыграть этого персонажа! Ни о каком другом литературном герое так не мечтал, как о нем. И, к сожалению, Обломов так и прошел мимо меня... Расстроился страшно.
И странные мысли стали приходить в голову: «Стоит ли и дальше продолжать этим всем заниматься?!» К тому же мне стали передавать разного рода кривотолки обо мне, дескать, Яковлев изменился, он больше уже ничего не может. Что тоже было крайне неприятно! В течение четырех лет я ничего не репетировал, доигрывал старые спектакли. Создалось впечатление, что я спустился сверху на самую нижнюю ступеньку! У меня случилась депрессия. Но выручили съемки в кино, все-таки надо было что-то зарабатывать. И кинематограф меня из той депрессии вытащил. Кстати, тогда мне позвонил главный режиссер МХАТа Олег Ефремов, пригласил меня поговорить. Помню, мы с ним встретились дома у Люды Максаковой. Олег Николаевич предложил перейти к нему в труппу и сразу на выбор несколько ролей в пьесах Чехова, чье творчество я люблю всю жизнь. Я же первым в истории русского театра оживил Антона Павловича — еще в 1965 году сыграл писателя в спектакле «Насмешливое мое счастье», который был поставлен по письмам Чехова и его близких...
Приглашал меня и Михаил Царев в Малый театр. И еще были предложения. Я много думал, соблазн оказался большой, но так и не смог переступить через себя и уйти из родного Театра имени Вахтангова. Все-таки там в моей жизни было много и хорошего!

Самуила Яковлевича Маршака, чьи пьесы шли и в нашем театре, однажды спросили, в чем он видит отличие Вахтанговского театра от других. Ответил он оригинально: «Привяжем камень к веревке и станем раскручивать. У других театров будет красивое вращение, а у вахтанговцев — радуга пойдет!» И я видел эту радугу над Арбатом, был сопричастным к ней. Меня учили ее вызывать и поддерживать...
— Это правда, что на вас коллеги в свое время много писали анонимок?
— Да, было! С большим наслаждением писали и в театр, и на киностудию «Мосфильм», и в Министерство культуры, и в горком партии. Я даже знаю, кто это делал. Писали, что я как актер уже несостоятелен или «не давайте ему званий, он ведет аморальный образ жизни, увлекается алкоголем и вообще многоженец». Имея в виду мои разводы и женитьбы. Актриса, супруга Михаила Ульянова Алла Парфаньяк после того, как я женился в третий раз — на сотруднице нашего театра Ирине Сергеевой, сказала: «В разведку с Яковлевым я бы не пошла!» Еще раньше некоторых возмущал тот факт, что был период, когда я метался между двумя семьями — первой моей супругой и будущей второй женой. Конечно, эти все высказывания в мой адрес мне были неприятны, но никаких мстительных ответных действий я не предпринимал. У меня самого на душе было тяжело. Вообще, признаться, я сделал такой вывод: среди актерской братии хороших людей мало, много негатива — это правда.
— Но насчет любовных романов коллеги были правы? Вы же сами не раз признавались, что очень влюбчивы...

— Я же по знаку зодиака Телец, а они очень влюбчивые. Да и родители мои были влюбчивыми людьми. Они развелись, когда мне было всего-то четыре года, и после ни мама не вышла замуж, ни отец не женился, хотя романов у них у каждого было много. Думаю, влюбчивость я унаследовал от мамы, которая была очень красивой женщиной. А от отца Василия Васильевича Яковлева, наверное, мне передалась подсознательная тяга к актерству. Ведь он в свое время хотел стать артистом. Успешно учился в консерватории, потом сам Станиславский принял его во вспомогательный состав Московского Художественного театра. Но мой будущий папа решил кардинально все изменить, окончил университет и стал юристом. Кстати, потом он невероятно гордился, что я стал артистом.
Я ведь еще в 11 лет мог попасть в кино. Наша семья тогда жила в Колобовском переулке, а рядом располагалась Студия детских и юношеских фильмов.
И вот однажды во дворе играем с ребятами и ко мне подходит женщина, предлагает пройти на студию. Там меня попросили надкусить яблоко, скривить недовольную гримасу и сказать: «Кислятина». Я все это проделал и побежал дальше играть. Потом узнал, что это были пробы на главную роль в фильм «Тимур и его команда». А я не прошел. Но ничуть не огорчился.
— Юрий Васильевич, помните, как началась Великая Отечественная война?

— Конечно, мне было уже 13 лет. Это был выходной день, воскресенье. По радио звучали какие-то веселые песни, я собирался пойти на улицу гулять. И вдруг в 12 часов дня — важное правительственное сообщение... Мама заплакала. А я спустился во двор к ребятам. Долго спорили, что же делать. Решили пойти к немецкому посольству на демонстрацию и бить там окна. Но туда пробиться уже нельзя было, людей много, здание оцеплено.
Поздней осенью 1941-го нас эвакуировали в Башкирию. Там параллельно с учебой я помогал маме, которая работала медсестрой в госпитале, стирал окровавленные, грязные бинты, сушил, скатывал их. Раненых было дикое количество, бесконечные потоки эшелонов. Еще подрабатывал рассыльным. Но все равно еды не хватало, в результате получил дистрофию. Тяжело все это вспоминать. В 1943 году мы оказались в Москве. Тогда было принято решение, чтобы дальнейшее образование я получал в школе для рабочей молодежи, а для этого надо было устроиться на работу. Через знакомых меня пристроили сначала заправщиком, а потом и помощником механика в гараж при американском посольстве. На всю жизнь я благодарен этому случаю: там я научился любить и понимать машины, а еще выучил английский язык. Помню, как в 1958 году мы поехали с фильмом «Идиот», где я играл князя Мышкина, в Америку, и вот там все члены нашей делегации удивились, как свободно я разговариваю с американцами. А это все оттуда, из гаража.
— Несмотря на то что вы хотели стать дипломатом, все-таки оказались на актерском факультете. Этакая ирония судьбы?
— Я не назвал бы это иронией судьбы. Сказалась подспудная любовь к театру, которая все время мне не давала покоя. Да, я уже готовился к поступлению в МГИМО, очень увлекался историей дипломатии, как мой старший двоюродный брат, с которым мы жили вместе. Это потом понял, что профессия дипломата сродни актерской... Может, это как-то сыграло в том, что я вдруг поменял свое решение? Все мои родные были не в восторге от того, что я пошел поступать во ВГИК. Но там на последнем туре, когда нужно было пройти пробы перед кинокамерой, Сергей Герасимов мне вынес вердикт: некиногеничен! И я помчался в Театральное училище имени Щукина, где вступительные экзамены еще продолжались. На подготовительном собеседовании со мной разговаривал тогда молодой, начинающий педагог Владимир Этуш. Он неожиданно посоветовал мне пойти в какую-нибудь другую профессию. Причем сказал это не от себя, а процитировал Серафиму Бирман, которая однажды заявила одному абитуриенту: «Молодой человек, вас ждут заводы!»

Но я решил: нет, буду поступать. Знаете, все эти экзамены в творческие вузы — лотерея. Я потом одно время сам сидел на вступительных экзаменах и могу сказать: по тому, что читают абитуриенты (стихотворение, басню, прозу), сложно что-либо угадать. Только на уровне интуиции, и то далеко не всегда... И когда я поступил — благодаря Цецилии Львовне Мансуровой, которая воскликнула: «Вы посмотрите на его глаза!», — я был счастлив. Ведь тогда из 600 человек поступающих отобрали всего пятнадцать!
Это были прекрасные годы! Какие учителя у нас были! Владимир Москвин, чтобы вызвать у меня слезы на сцене, кричал на меня матом, ругал нещадно. Мне, кстати, всегда было сложно заплакать на сцене или в кадре. Вот на съемках фильма «Идиот» режиссер Пырьев подговорил артиста Никиту Подгорного, который играл Иволгина, дать мне неожиданно пощечину по-настоящему. Таким образом добился нужной ему моей реакции. Я не заплакал, но выражение лица было такое, что вот-вот заплачу.
В училище случилась моя первая юношеская любовь — моя однокурсница Галя Анисимова, которая потом стала ведущей актрисой Театра имени Маяковского. У нас был небольшой, но очень трогательный роман. А потом я влюбился в Киру Мачульскую, которая работала участковым врачом в поликлинике. Это была такая яркая влюбленность, раз — и я пропал! Мы познакомились в 1955 году на концерте в Московской филармонии. В антракте с другом гуляли по фойе, и я увидел красивую девушку, которая была с мамой и каким-то молодым человеком. А после концерта, когда я увидел, как в гардеробе этот парень подает ей пальто, обнаглел, подбежал, выхватил у него пальто и предложил девушке: «Позвольте?» Что со мной случилось, почему? Не знаю! Я ведь никогда таким нахалом не был... И она пошла со мной, мы прогуляли до утра.
Через неделю стали жить вместе. Я был так влюблен! Например, идем с ней по улице, я говорю: «Хочешь, ради любви к тебе засуну голову в эту мусорную урну?!» Она отвечает: «Не надо, что ты!» Но я все равно наклоняюсь и поднимаюсь с этой урной на голове. А потом... В театре во время работы над спектаклем «Дамы и гусары», где я, 30-летний, играл 60-летнего Майора, познакомился с Катей Райкиной, дочкой знаменитого эстрадного артиста Аркадия Райкина. Она была замужем за Мишей Державиным, и я тоже был несвободен. Понимаете, когда я влюблялся, уже не мог сдерживать эмоции. Мы поехали на гастроли в Болгарию, вернулись оттуда в полной уверенности, что нам нужно быть вместе. Конечно, я долго колебался: в той семье должна была родиться Аленка, а здесь Катя ждала мальчика Лешу. Меня осуждали за такое поведение, но, поверьте, я осуждал себя не меньше. Трудно мне было! Жалею, что тогда доставил неприятные, огорчительные минуты своим близким...

Через четыре года жизни с Катей снова влюбился — в сотрудницу музея нашего театра Ирину. И тоже не смог справиться со своими чувствами, ушел из семьи. Меня, наверное, можно осуждать, но, понимаете, я всегда жил чувствами, а не какой-то стратегией. Мне было все равно, кто как меня осудит, главное, чтобы я был честен перед собой и в своих чувствах.
Признаюсь: в душе я всегда был гусаром. И выпить любил, и с женщинами у меня всегда были славные отношения. Может, поэтому Рязанов пригласил меня в фильм «Гусарская баллада»? Хотя я совсем не похож на поручика Ржевского.
— Юрий Васильевич, вот вы рассказали про вашу некиногеничность, во что сегодня сложно поверить. Первый ваш успех — князь Мышкин в «Идиоте». Это случайность?
— Наверное, режиссер Иван Пырьев разглядел во мне то, что ему было близко. Я прошел пробы в фильм Григория Чухрая «Сорок первый» на роль поручика Говорухи-Отрока. Потом его блестяще сыграл Олег Стриженов. И вскоре вышел фильм «Необыкновенное лето», где я сыграл главную роль. Пырьев тогда же был директором «Мосфильма». Он вспомнил и те пробы, и посмотрел фильм со мной. Пригласил познакомиться и тут же сказал: «Я десять лет искал артиста на роль князя Мышкина! Мне нужны такие глаза, как у вас!» И я начал сниматься. Пырьев просил меня не акцентировать внимание на душевной болезни Мышкина — помнить о том, что Достоевский, по его собственному признанию, стремился «изобразить положительно прекрасного человека». Конечно, когда картина вышла, это был гром среди ясного неба. Потому что тогда в школах произведения Достоевского не проходили, лишь говорили: был такой писатель, написал такие-то романы, и все. Никто широко и не знал его творчество. Когда мы были в Америке с этим фильмом, на студии «Двадцатый Век Фокс» мне предложили сыграть у них роль Иисуса Христа. Рядом со мной находился Иван Пырьев и сказал: «Конечно, соглашайся!» Но, когда мы прилетели в Москву, он заговорил по-другому: «Ты что, с ума сошел?! Мы коммунизм строим, а ты Христа хочешь играть!» На этом все и закончилось. Жалко, конечно... Хотелось бы попробовать сыграть Христа.

Кстати, Пырьев однажды стоял передо мной на коленях. Да-да! Это было уже после «Идиота». Звонок с киностудии: с вами хочет поговорить Иван Александрович, приезжайте. За мной присылают машину. И вот вхожу в кабинет Пырьева. Вдруг он вскакивает из-за стола, падает перед мной на колени: «Умоляю, сыграй в новом фильме Рязанова!» Дело в том, что незадолго до этого Эльдар Александрович предложил мне роль в комедии «Человек ниоткуда». Я отказался, поскольку было очень много работы в театре. И вот Рязанов пошел на такую хитрость. Конечно, Пырьеву отказать я уже не мог. Но не жалею, потому что с Рязановым мы потом еще работали, с ним было очень комфортно и легко.
Но, знаете, до сих пор обидно, когда мне вслед кричат: «Ипполит пошел!» Я столько ролей сыграл! Например, Стиву Облонского в фильме «Анна Каренина», — моя самая любимая работа в кино. А люди интересуются, в своих ли я шапке и пальто снимался в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». И в сотый раз рассказываю, как неожиданно придумал эту фразу в душе: «Тепленькая пошла». Да, фильм получился хорошим, как сейчас говорят, культовым, но... Ипполит — это абсолютно не мой характер, ко мне лично он никакого отношения не имеет. Такая наша профессия: постоянно что-то придумываешь.

Ведь роли мне снятся, я даже в штуку всегда говорил: работаю ночью, во сне. Вот приснился мне Иван Васильевич Грозный в носках и сандалиях, и я предложил Гайдаю этот кадр. Оказалось, смешно. Помните его? А когда надел царский кафтан, в котором снимался Николай Черкасов в фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», то сразу понял, как нужно играть этого героя. Но в то же время это ведь комедийная пьеса Михаила Булгакова, значит, нужно было найти что-то смешное и в царе... Я придумал смешное и про моего управдома Буншу — он шепелявит и говорит очень быстро...
Вот так, в двух словах, невозможно объяснить, как работаешь над ролью, все индивидуально. Помню, как мы в Театре имени Вахтангова начали работу над возрождением спектакля «Принцесса Турандот». Мне досталась роль старичка Панталоне. И я никак не мог понять, как его играть. Долго думал. Однажды поделился своими сомнениями с Аркадием Райкиным. Он спрашивает: «Сколько твоему герою лет?» Я подумал: «Наверное, лет четыреста». Райкин протягивает мне газету: «Прочитай эту статью так, чтобы было плохо понятно, что ты там говоришь». Как сейчас помню, статья называлась «За идейную чистоту литературного искусства». Я что-то бегло проговорил, ничего непонятно, но все засмеялись. И я понял, как нужно играть этого старика, неожиданно пришел характер персонажа. Вот такие бывают находки.

Бывало, что совсем не понимаешь, что играешь. Когда Гия Данелия пригласил меня в фильм «Кин-дза-дза!» и дал прочитать сценарий, я ничего не понял. Но согласился, потому что хотел поработать с этим прекрасным режиссером. Что это такая прекрасная философская кинопритча, я понял после того, как посмотрел картину спустя несколько лет.
Понимаете, я всегда чувствовал себя в первую очередь лицедеем, и мне нравилось изображать своих героев разными. Старался как можно дальше уйти от себя, чтобы персонаж был непохож на меня. Наверное, нет такой роли, по которой я бы сказал: вот это я. Уверен, что актеры — это абсолютно больные и сумасшедшие люди! Вот иду по улице, а на меня смотрят, как на сумасшедшего. Оказывается, сам не замечаю, как с собой разговариваю, проговариваю текст роли. А как мне стало плохо перед генеральной репетицией на публике спектакля «Насмешливое мое счастье», о котором я уже упоминал! Перед выходом на сцену я вдруг испугался, понял, что не помню текст роли! У меня язык набух от волнения и не помещался во рту! Тогда показ отменили. Скажите, ну разве это не больной человек? Всегда весь в сомнениях, в волнениях, в чужих текстах и судьбах! Конечно, артисты — не совсем здоровые люди! Если не ошибаюсь, Гете говорил: «Человеку я могу простить многое, актеру — никогда». Так и артистам никогда зритель не простит: ни болезней, ни плохого настроения, ни просьб о жалости.