
«Когда узнала, что моим партнером будет Евгений Миронов, дико обрадовалась. Помню, как в первый съемочный день он сидел со мной рядом на гриме, в соседнем кресле, очень собранный и сконцентрированный. А я испытывала одновременно какие-то смешанные детские чувства. Радость, любопытство, страх и невероятный восторг от того, что буду работать с большим мастером».
— Елизавета, в онлайн-кинотеатре Okko вышел сериал с интригующим названием «Цыгане. Улица Шекспира», в котором у вас главная женская роль. Расскажите, что это за проект?
— О, это очень аутентичный проект, в основе которого лежит история такого вечного возвращения героя домой. У сценаристов Олега Маловичко, Михаила Шульмана и Давида Саркисяна возникла идея рассказать о народе, у которого в силу исторической обусловленности нет постоянного прибежища. И улица Шекспира, если говорить о названии, существует на самом деле в старейшем цыганском поселке Екатеринбурга. Несколько лет назад дома там чуть не снесли, когда один из девелоперов решил забрать землю. И этот сюжет отчасти тоже вошел в сериал.
Вообще это большая история про людей, пытающихся разобраться в собственном выборе, своем прошлом и настоящем, своем месте в мире. Мне кажется, этот проект — вызов и для создателей, и для актеров, и для зрителей. В культурном сознании много стереотипов о цыганах, а нам хотелось их как раз сломать и, наоборот, исследовать эту яркую самобытность. При этом сценарий сам по себе интересный.
— Вы сыграли цыганку?
— Дочь цыганского барона — Диану. Она неожиданно появляется в жизни успешного московского адвоката и просит ей помочь. Взамен Диана обещает хранить его тайну. Ведь адвокат на самом деле — цыган Михай Деметр (Дмитрий Чеботарев), которого когда-то изгнали из табора и разлучили с любимой. Ради нее он возвращается к прежней жизни. И это не просто возвращение в табор, а поиск себя настоящего. Диана тоже проходит сложный путь
— Не рановато ли вам было в 30 лет играть маму взрослой дочери?
— Признаться, я сначала немного испугалась, когда узнала про такой расклад. Но есть нюанс. Цыганские девушки очень рано выходят замуж, в особенности таборные. И в нашем сценарии героиня родила в пятнадцать.
— Как вы вживались в образ?
— Это было достаточно долгое и глубокое погружение. Сначала мне помогала знакомая журналистка, которая обожает цыганскую культуру и дружит со многими представителями этой этнической группы. Она познакомила меня с Надеждой Деметер — одним из лучших специалистов в области этнографии и истории цыган. Надежда Георгиевна не только ученый, но и президент регионального совета Федеральной национально-культурной автономии российских цыган и эксперт ОБСЕ и Совета Европы. Мы с ней очень долго говорили о том, какими цыгане предстают в коллективном сознании людей и какие они на самом деле. А дальше я уже занималась скорее исследованием внутренних процессов героини. Хотела понять, «про что» она.

— Наверное, пришлось изучить какие-то цыганские обычаи, манеру одеваться, петь, танцевать?
— Все же мы говорим про цыганку, интегрированную в современную жизнь. И нам хотелось соблюсти баланс — быть правдоподобными относительно особенностей ее жизни и не уходить в романтизированно-искаженное представление о цыганской женщине. Моя героиня в первую очередь человек. И нас больше занимали ее личностные проявления, мы не собирались уходить в иллюстрацию.
У Дианы есть момент, когда она очень остро проживает состояние влюбленности, и такой... женской власти. И мы решили проявить это через танец. Поэтому да, я занималась хореографией с Артуром Богдановым — ведущим артистом театра «Ромэн», певцом, музыкантом и балетмейстером.
Ну а в том, что касается одежды, мне очень повезло быть в сотворчестве с художником по костюму — Севериной Недельчук. Мы устроили себе праздник бохо-шик. Соединяли в облике героини этнику, многослойность, не боялись иногда уходить в китч. Постоянно выискивали «раритеты» — на блошином рынке, в случайных шоурумах. Я настолько была подключена к этой всей визуальной составляющей, что могла отправиться за каким-то платьем на другой конец Москвы.
Из забавного — у меня уши не были проколоты, и художники сделали десятки специальных клипс, выглядевших как сережки.
— В съемках участвовали настоящие цыгане? Как они вас восприняли? Может быть, что-то подсказывали?
— Цыгане действительно снимались в сериале и делали это с удовольствием. Особенно женщины с детьми. Они поначалу спрашивали, не цыганка ли я.
— Значит, признали!
— Признали. Потом я время от времени уточняла у них, как правильно произнести ту или иную фразу. В основном мы говорили на русском языке, но иногда переходили на романи.
— Интересно, как говорит на нем Игорь Золотовицкий! Это ведь он играл вашего экранного отца?
— Мне кажется, Золотовицкому очень идет цыганский язык и роль баро?.
— Он просто баро по жизни! Большой артист и ректор Школы-студии МХАТ!
— Игорь Яковлевич действительно большой артист и замечательный человек, очень харизматичный и добрый, отзывчивый. Вспоминая Золотовицкого, я всегда улыбаюсь.
Однажды, когда большая часть сериала уже была отснята, произошел забавный случай. В сквере рядом с домом я заметила высокого человека с собакой. Всмотрелась и поняла, что это Золотовицкий. Бросилась к нему, конечно, со словами: «Дадо, дадо!» («Папа» на цыганском.) Привыкла так называть его во время съемок. Он улыбнулся: «Дочка! А ты здесь откуда?» Оказалось, мы живем в соседних домах.

— Вы похожи на цыганку. В вас, случайно, нет цыганской крови?
— Точно сказать трудно, так как мое генеалогическое древо обрывается на прабабушках и прадедушках. Родилась и выросла я на юге, в Ростове-на-Дону. Но мне постоянно задают вопрос о том, какие у меня корни.
— С детства грезили о сцене?
— Просто с детства будто бы знала, что там окажусь. Но вообще у меня был широкий круг интересов. В детстве я училась в художественной школе, занималась живописью. Думала стать архитектором. Потом довольно серьезно занялась хореографией. Были различные танцевальные школы, где я осваивала разные направления. В какой-то момент даже собиралась ехать в Москву, показываться в основной состав «Тодеса» к Алле Духовой.
— Но после школы вы поступили не в архитектурный институт, не в театральный и не в основной состав «Тодеса», а на журфак Южного федерального университета. Почему?
— Мне было интересно очень многое, как я уже сказала. Когда в старших классах школы нас заставляли писать сочинения на тему «Кем я хочу быть», я признавалась, что вижу себя в театральной сфере, но интуитивно чувствовала, что для работы в театре нужны опыт и какая-то осмысленность, что ли, которых у меня еще нет. Что будет неправильно, если я после школы поступлю в театральный институт, хотя все обычно так и делают. В то же время мне была интересна работа со словом, я любила литературу. Училась в Классическом лицее в гуманитарном классе.
В общем, никакого противоречия в моем решении не было. С одной стороны, мне хотелось в театр, но с другой — очень хотелось также заниматься журналистикой. Как ни странно, я почему-то считала, что театр от меня никуда не денется.
— К тому времени у вас уже был какой-то актерский опыт хотя бы на уровне школьной самодеятельности?
— Я принимала участие в школьных постановках. Играла в основном характерные роли, например Шапокляк.
Когда увидела распределение, задала вопрос учительнице:
— А почему именно я должна играть Шапокляк?
— Потому что ты не такая добрая, как Наденька! — такой был ответ.

— Взрослые поощряли ваши мечты о сцене? Или старались направить вас в другое русло?
— Они давали возможность попробовать все, чтобы понять, что мне наиболее близко. Но так сложилось, что мне было близко все. И долгое время казалось, что, если я концентрируюсь на какой-то одной сфере, что-то проходит мимо. Сейчас это ощущение, к счастью, ушло.
— На журфаке было интересно?
— Да, но и сложно одновременно, потому что слишком много времени уходило на переводы. Я училась на международной журналистике с углубленным изучением английского языка. Зачастую приходилось ложиться в шесть утра. А параллельно еще проходила журналистская практика. И танцевать хотелось. И учиться актерскому мастерству. На втором курсе я стала заниматься с актрисой Ростовского театра драмы имени Горького. Она готовила меня в театральный.
— То есть вы все-таки решили поступать?
— В университете я делала все возможное. Мне было интересно там учиться, но все равно хотелось чего-то большего, были какие-то мечты. Я помню это чувство, какое-то детское, когда тебе восемнадцать и ты спешишь на занятия, а в голове клубок самых разных фантазий. Там и впечатления от факультатива по истории театра, и какой-то винегрет из Книппер-Чеховой, основ журналистики, книг Флобера, Золя и фильма, который ты только что посмотрела. И пусть ты не знаешь, поступишь ли в театральный в этом году или нет, отпустят ли тебя родители в Москву или не отпустят, но почему-то не сомневаешься, что твои мечты сбудутся.
— Родители не отпускали вас в Москву?
— После второго курса отпустили, но я не поступила. В «Щуке», «Щепке» и ГИТИСе слетела на первых турах. Во ВГИКе дошла до третьего и слетела перед конкурсом.
Наверное, такой результат можно было предвидеть, ведь это была полубессознательная проба себя. Я хотела в театральный, но у меня не было четкого понимания, почему и зачем я туда иду. А когда такого понимания нет, ничего не получается.
Я была одержима своей мечтой и скорее играла в эту историю. Знаете, все девочки, поступающие в театральные вузы, похожи на этаких нимф с летящими кудрями, в романтичных платьях. В то лето я тоже была такой «нимфой». Помню, в метро кто-то сказал: «Девушка, вы так похожи на Киру Найтли!» И мне показалось, что все люди, сидящие в вагоне, пребывают в таком же мечтательно-романтическом настроении, что и я, и поступают туда же.
— Через год вы повторили попытку, но уже с другим результатом?
— Потому что все уже было иначе. Я повзрослела, у меня появился другой репертуар и понимание того, почему хочу пойти в актерскую профессию. На третьем курсе журфака я занималась в театральной студии Николая Ханжарова, прекрасного актера и педагога. Он очень много мне дал. Я до сих пор помню, что Николай Мигдатович говорил нам относительно профессии, это до сих пор во мне звучит. Недавно, кстати, увидела его в фильме «Эра» с Марианной Шульц в главной роли. Очень обрадовалась.

В Москве я дошла до конкурса в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина и в Щукинском у Валентины Николаенко. Выбирала между этими двумя вузами и педагогами и выбрала Школу Райкина.
А к Константину Аркадьевичу на прослушивание я попала случайно. Просто стояла в ГИТИСе в очереди абитуриентов и услышала, как кто-то сказал: «А вы знаете, что Райкин открывает Высшую школу сценических искусств? В «Сатириконе» прослушивание». Побежала туда.
— Учиться было тяжело?
— Непросто. Мне кажется, я тогда не была готова к коммуникации с таким большим количеством людей. Я имею в виду не столько неумение или умение выстраивать контакт, сколько зацикленность на себе. Нас было очень много на курсе — 30 человек, и, когда мы все собрались в сентябре, я растерялась. Сразу захотелось к кому-то пристроиться, а контакт не находился. Некоторые ребята тут же начинали дружить, достаточно было просто сесть рядом или улыбнуться друг другу. Со мной такого не происходило. Может быть, потому, что курс был очень разношерстный? Несколько ребят были с высшим образованием. Некоторые уже играли в профессиональных театрах в других городах, кто-то был после школы, а кто-то, как я, отучился два-три курса в вузе.
— Наверное, южному человеку в Москве неуютно и холодно?
— Что вы! Я обожаю Москву. У меня не было какой-то притирки к этому городу. Наоборот, его темпоритм вдохновлял. Я это почувствовала в первый же приезд. Может быть, еще и поэтому поехала второй раз поступать в столицу. Когда шла по городу, особенно в период экзаменов, чувствовала невероятный подъем. Мне казалось, что асфальт пульсирует под ногами, город дышит в унисон, а прохожие — самые неравнодушные люди. Иногда возникало ощущение, что я попала в какое-то кино. Нет, никогда я не чувствовала себя чужой в этом городе.
— Райкин строгий педагог?
— Константин Аркадьевич невероятно требователен к себе и так же требователен к другим людям. До четвертого курса над нами довлел страх отчисления из ВШСИ.
— И кого-то действительно выгнали?
— Три человека ушли. Остальные держались как могли, просто когтями и зубами цеплялись за Школу.
— Как Райкин относился к вам?
— Мне кажется, очень нежно. Он обожает своих студентов, несмотря на строгость и требовательность. Хотя в процессе учебы я всегда сомневалась. Я не была в авангарде курса. Знаете, некоторые студенты стали звездами с самого начала. У них сразу получались какие-то этюды, а я смотрела на них и думала: «Мне тоже надо выйти сейчас на сцену мастерской, но я не выйду, потому что не сделаю это так хорошо, как могла бы». У меня были постоянные конфликты с собой. Возможно, потому, что я была перфекционисткой. Сейчас понимаю, что лучше выходить и пробовать, даже если очень страшно. По сути, этому и учит театральный институт. А на первом курсе я все время ждала какого-то особого момента. У меня была слишком высокая планка, мне хотелось сделать что-то невероятное и классное, но в нужный момент я чувствовала себя не готовой. И пока комплексовала и рефлексировала, другие просто делали этюды.

Но главной моей бедой были даже не самокопания, а проблемы с речью. Я ведь была из Ростова, а Константин Аркадьевич не выносил южнороссийский говор. К тому же со второго семестра я носила брекеты, что еще больше усугубляло ситуацию. Доходило до того, что Райкин иногда говорил: «Отличный отрывок! По мастерству я бы поставил пять, но, черт возьми, я ничего не понял из того, что ты говорила!» Я уже боялась лишний раз что-то у него спросить, чтобы не нарваться на раздражение.
Как-то после третьего курса я приехала домой на каникулы и стала заниматься с преподавателем по сценречи, когда-то работавшим в БДТ у Товстоногова. Она систематизировала меня и поделилась определенной структурой, куда входили артикуляционные упражнения, упражнения на звучание, дыхательная техника Стрельниковой и много чего еще. Например, нужно было читать текст Шекспира, прыгая на скакалке. По этой системе я занималась ежедневно, потому что педагог предупредила: «Если хотя бы день пропустишь, откатишься назад». Я не пропустила ни дня. Мне ужасно надоела эта история. Проблемы с речью как будто мешали показать, на что я способна.
— После окончания Школы Райкин взял вас к себе в «Сатирикон»?
— Нет, хотя с первого по третий курс я об этом мечтала. Да мы все думали, что попадем к нему. И Константин Аркадьевич взял к себе довольно много моих однокурсников. А у меня на четвертом курсе очень резко сменился вектор, я захотела поработать с Дмитрием Крымовым.
Надо отдать должное Райкину — он устроил нам грандиозное количество показов, потому что чувствовал ответственность за каждого из нас. Если понимал, что этот артист не для его театра, все равно старался за него побороться и помочь. В какой-то момент у нашего курса состоялся показ в «Школу драматического искусства», и Дмитрий Крымов действительно взял меня к себе в лабораторию.
Это была забавная история. Обычно студенты показывают какие-то отрывки, выдернутые из контекста. По ним очень сложно составить о них какое-то мнение как об артистах. Я понимала, что Крымову надо показывать нечто особенное, парадоксальное. И, вероятно, из этих соображений выбрала отрывок по пьесе «Евстигнеев смеется» Даниила Хармса. Мы показывали его с моим однокурсником, ныне работающим в «Сатириконе». Отрывок начинался с песни Шуфутинского. Я играла домохозяйку в халате и тапочках, которая ждет гостей. Это был не самый очевидный, конечно, выбор и вообще похоже на капустник.
Еще я показала отрывок в жанре вербатим с моей подругой. Она играла смешную интеллигентку, а я картавящую маргинальную гитаристку в метро, в переходе на Кантемировскую улицу — с выбритыми висками, черными губами, в кожаных берцах. Когда мы все показали свои отрывки, Крымов сказал: «Ребята, спасибо! На самом деле у меня лаборатория переполнена, я никого из вас не могу взять. Но тут есть одна девочка... Вот если бы я мог, как какой-нибудь кутюрье, одеть ее в свое платье...» Посмотрел на меня после этого и попросил почитать что-нибудь еще. Я стала читать «Дебют» Бродского. Потом Крымов попросил поимпровизировать от лица разных персонажей. Мне всегда нравились его гротескные персонажи, как в спектакле «О-й. Поздняя любовь», и я была рада играть в эту странную игру, здесь и сейчас искать и находить какие-то новые проявления. Было внутреннее предощущение, что все случилось.
— Вскоре вы вышли на сцену театра «Школа драматического искусства»?
— У Крымова я сыграла две роли. Первую — маленькую и без слов — в ШДИ в спектакле «Безприданница». Про этот образ все обычно забывают, но Крымов не пропускает таких важных персонажей. Я говорю про сестру Ларисы Огудаловой, зарезанную ревнивым грузинским князем. В этом спектакле я выходила на сцену с кинжалом в сердце в прямом смысле этого слова. Такое было решение художника и сценографа.
— Этакий гротескный призрак?
— Да. Появлялась в редкие моменты, но все равно это было для меня счастьем. В то время у Дмитрия Анатольевича был помощник Эндрю, и однажды он рассказал: «Моя подруга, журналистка, после спектакля весь вечер спрашивала: «Кто эта девушка, выходящая с кинжалом в сердце? Мне так интересна ее судьба!»
Вторую роль, уже со словами, я сыграла в постановке Крымова в Театре Наций — Полину Виардо в спектакле «Му-Му».

— Это ведь не инсценировка хрестоматийного произведения Тургенева, а комедия дель арте о любви к театру, в которой действуют и сам Тургенев, и Полина Виардо...
— ...и помощник режиссера, и племянница Тургенева Маша, которую играет Маша Смольникова.
— И на студенческом показе Крымов увидел вас именно в этой роли, когда задумал одеть в платье от-кутюр?
— Да, хотя, конечно, он хотел показать совсем не шикарную оперную диву. Ему был интересен феномен обожаемой жены, которая всегда не к месту. Его Полина Виардо — это такая узнаваемая красивая женщина, избалованная вниманием, но вынужденная бороться со своим самолюбием, потому что у Ивана Сергеевича Тургенева есть нечто более важное, чем ее женские желания и проблемы.
— В самом начале своей актерской карьеры вы сыграли сразу в двух громких театральных премьерах, наделавших шума в Москве. Почему же вдруг оказались в Мультимедиа Арт Музее?
— Просто однажды Маша Смольникова ушла в декрет. Она играла главные роли в «Безприданнице» и «Му-Му», и у нее не было второго состава. Поэтому мы прекратили играть эти спектакли. Крымов в то время уволился из «Школы драматического искусства», и я ушла из труппы театра. Оставаться там после ухода Дмитрия Анатольевича не хотела, как и играть где-то еще. Пришлось искать работу, хотя бы на время.
Стала смотреть предложения в соцсетях в разделах «Культура» и «Искусство» и увидела, что Мультимедиа Арт Музею (МАММ) требуется медиатор в образовательный отдел. Отправила резюме. Через какое-то время мне написал директор отдела и попросил подготовить какую-нибудь экскурсию и написать по три текста к какой-нибудь выставке МАММ для нескольких интернет-ресурсов. Я выполнила это задание и стала научным сотрудником Мультимедиа Арт Музея.
А дальше мне на рабочий стол стали складывать стопки книг: вот тебе Роберт Капа, вот Картье Брессон, вот «История пикториализма», вот «История нонконформизма». Я их изучала и придумывала экскурсии по существующим выставкам. У меня не было методички, как, например, у сотрудников Пушкинского музея, я должна была сама простраивать хореографию своего рассказа, опираясь на историко-искусствоведческую базу. И это должно было быть профессионально, без намека на дилетантство. В музее почему-то доверились мне, а я первое время пребывала в состоянии страха и радости одновременно.
В условиях постоянной сменяемости экспозиций приходилось все время осваивать что-то новое, постоянно читать и разбираться в истории искусства. Но это была грандиозная прививка, без которой сейчас я вообще себя не представляю. Работа в Мультимедиа Арт Музее влюбила меня в какой-то новый мир.
— Как долго вы там проработали?
— Почти два года. Ушла я в тот момент, когда выпустила в Новом пространстве Театра Наций спектакль «7 дней в совриске». Сотрудничество с этим театром возобновила немного раньше, когда сыграла небольшую роль в спектакле «Разбитый кувшин» Тимофея Кулябина.
— Это была очень яркая постановка по старинной пьесе Генриха фон Клейста, переделанной на современный лад.
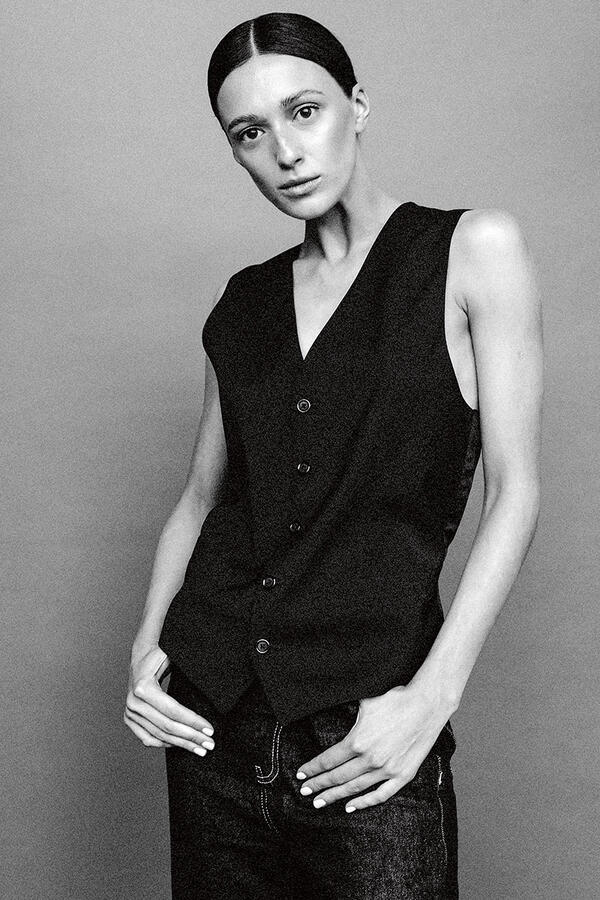

— Да, все происходило в каком-то близком будущем, это была такая европейская утопия. Я в ней играла служанку, беженку с Ближнего Востока.
— И говорили на арабском языке?
— Не то чтобы говорила, но произносила монолог. Кулябин придумал, что моя героиня говорит по-арабски. Я решила, что это не может быть какой-то тарабарщиной, произвольным сочетанием звуков. Придумала текст и попросила свою знакомую, режиссера из Иордании, перевести его и записать в виде голосового сообщения, а потом учила на слух.
— Как вам удалось совместить работу в Театре Наций с работой в музее?
— Это было во время ковида, и в МАММ мы находились на удаленке. Но когда в Театре Наций мне предложили роль в спектакле «7 дней в совриске», ковидная история уже заканчивалась, и мне пришлось взять отпуск.
— Совриск — это ведь аббревиатура от «современного искусства»? Спектакль рассказывал о том, как делаются выставки?
— Да, и я играла практически саму себя.
При создании пьесы драматург Егор Зайцев и режиссер Егор Матвеев опирались на достаточно известную книгу Сары Торнтон, рассказывающую об изнанке рынка современного искусства. Почему какие-то художники становятся востребованными и стоят столько, сколько они стоят, чем определяется цена и так далее. Работая над спектаклем, мы, можно сказать, стали патологоанатомами этого мира. В моей роли было много моего личного эмоционального фона, потому что в МАММ я тогда существовала в ситуации огромного стресса.
Ольга Львовна Свиблова, основатель и директор музея, очень неодобрительно отнеслась к тому, что я взяла отпуск ради театра. Она не любила, когда ее сотрудники совмещали работу в музее с чем-то еще. А мне приходилось очень непросто. После многочасовой репетиции я приезжала в закрытый для посетителей музей и в ночи писала тексты или выстраивала структуру экскурсии, которую надо было провести, а утром снова ехала в театр. Немудрено, что в спектакле появились мои монологи о наболевшем и отсылки к той жизни, которую я вела.
Свиблова пришла на премьеру, что было очень странно. Я узнала об этом за минуту до выхода на сцену. Кто-то сказал:
— Ты знаешь, что Ольга Львовна в зале?
— Нет, конечно.

Потом я увидела ее в заднем ряду партера. Реакцию прочитать было невозможно. Все зрители носили маски, а на Ольге Львовне красовался целый шлем. Но думаю, ее лицо было непроницаемым, она всегда строга.
После премьеры мы собрались на фуршет. Я смеялась, когда зазвонил телефон. Это была Ольга Львовна в очень веселом расположении духа. Она сказала:
— Лиза, я вас поздравляю. Это очень хороший спектакль, и правильно, что вы в нем играете, вам нужно заниматься театром. Вы — прекрасная актриса. Полагаю, вы бы и музеем занимались хорошо, но надо выбрать что-то одно. Наверное, театр.
— Так она вас уволила?
— Да, вот таким неожиданным образом. Кажется, я тогда ужасно рыдала. Но у этого были предпосылки. Когда у меня начались репетиции, я сдавала ей очередной текст и допустила в нем какую-то ошибку, непростительную, по мнению Ольги Львовны. Для нее это был очень важный момент. Мы должны были крайне бережно относиться к словам и смыслам. Ну а потом я еще взяла отпуск и стала бывать в театре больше, чем в музее. Наверное, любой человек, относящийся со страстью к своему делу, не мог такое простить.
— Это было сродни измене? Она доверила вам часть своего детища, впустила в свой мир, а вы предпочли ему что-то еще?
— Хотя я не предпочла. То есть, если бы у меня была возможность, я продолжала бы заниматься музеем, несмотря на то что некоторые люди мне говорили: нет, надо заниматься чем-то одним, ты не можешь расплескивать себя.
— Оставив музей, вы сосредоточились на актерской профессии? И стали сниматься в кино и сериалах?
— Сначала сразу после «Семи дней в совриске» случился спектакль Данила Чащина «Живой Т.». Он создан по мотивам пьесы Льва Толстого «Живой труп», но в него вплетена история взаимоотношений Льва Николаевича и его жены Софьи Андреевны. Я в нем сыграла Машу.
— Так вот когда вы впервые стали цыганкой!
— Мы опустили в спектакле ее национальность, она не цыганка и даже не певица.
— А я-то хотела сказать: «Теперь понятно, почему Данил Чащин позвал вас на роль Дианы в сериал «Цыгане. Улица Шекспира»!

— На самом деле так почти и произошло. То есть мы отошли от какой-то цыганской истории, Маша просто современная девушка, приехавшая из Прибалтики и ставшая танцовщицей в России где-то в кабаре или клубе. Но однажды Даня ко мне подошел и сказал: «Слушай, ты же все-таки цыганку играешь по сути-то, а я скоро запускаюсь с проектом про цыган и хотел бы, чтобы ты попробовалась на главную женскую роль». Я стала пробоваться.
Может быть, если бы не спектакль «Живой Т.», роли Дианы у меня не случилось бы. На нее, кстати, был большой конкурс.
— Сколько сейчас у вас названий в Театре Наций?
— Я играю в «Му-Му», «Живом Т.» и с недавних пор в «Дон Кихоте» Антона Федорова. «Разбитый кувшин» уже не идет, как и «7 дней в совриске».
— Ваш «Дон Кихот» как-то перекликается с романом Сервантеса или далек от оригинала?
— Если увидите этот спектакль, убедитесь, что это Сервантес. Но здесь разговор не о том, насколько близок или далек спектакль от оригинала. Важнее то, о чем мы говорим со зрителем. Сервантес — это отправная точка и возможность поразмышлять о феномене смещения реальности и иллюзии, о безумной попытке подстроить реальность под свои представления о добре и зле, правде и чести и о том, к чему это может привести. Дон Кихот — огромное, многослойное пародийное произведение с большим количеством разных смыслов и тем. И говорить о какой-то одной мысли или идее не имеет смысла.
В «Дон Кихоте» я играю Альтисидору. У Сервантеса это неоднозначный персонаж, и интересно следить за тем, как этот образ преломляется в спектакле. Сейчас не хотела бы как-то интерпретировать мою героиню, потому что интерпретация зависит еще и от зрителя. Зритель всегда становится соавтором спектакля и сам расшифровывает эту многомерную, многоконтекстную действительность. Хочется оставить за ним это право.
Знаете, был такой художник-концептуалист Иван Чуйков. Его визитная карточка — знаменитая серия «Окна». Началось все случайно. Однажды, выходя из гостей, художник увидел в подъезде брошенные оконные рамы и взял одну из них. Впоследствии он наложил на нее полотно с копией одной картины , и окно стало порталом, через который открылась новая реальность. Или иллюзия. Каждый решает сам. Концепция спектакля «Дон Кихот» в чем-то перекликается с этим.
— Поговорим, пожалуй, о кино. По нынешним меркам вы начали сниматься довольно поздно.
— В двадцать семь.
— До этого не участвовали в кастингах?
— Нет, я не понимала, как это все устроено. Что актеру нужен проводник — агент. И не было у меня такого счастливого случая, чтобы кто-то где-то увидел Лизу Юрьеву, запомнил ее и решил прислать сценарий или пригласить на пробы. Но когда агент у меня наконец-то появился, состоялся мой дебют в фильме «Нюрнберг» Николая Лебедева.

— Признаться, я считала, что впервые вы появились на экране в сериале «Полицейский с Рублевки». Потом у вас был сериал «Купцы и дети».
— В «Полицейском с Рублевки» я появлялась на считаные секунды, это был крохотный эпизод. Что касается сериала «Купцы и дети», то я снималась только в пилоте, и это было уже после фильма Лебедева.
— То есть полноценные съемки для вас начались с «Нюрнберга»?
— Ну как полноценные... У меня там что-то среднее между эпизодом и ролью второго плана. Я, можно сказать, «девушка из архива». Но мне довелось поработать с замечательным артистом, художественным руководителем Театра Наций Евгением Мироновым. Он играл полковника Мигачева — руководителя советской делегации на Нюрнбергском процессе, а я его помощницу.
На пробах Николай Лебедев спросил, в каком театре я работаю. Я ответила, что в Театре Наций, и он заулыбался: «А у нас уже есть один ваш артист! Он и будет вашим партнером». Но не уточнил, что речь о Евгении Миронове!
— Когда же вы его увидели?
— Не сразу, все происходило step by step. Вообще, чтобы представить, что я чувствовала, надо иметь в виду, что это был мой первый полнометражный фильм, да еще историческая драма, и я впервые оказалась на «Мосфильме». На примерках костюма и грима все гадала, с кем буду играть. И когда наконец узнала, что моим партнером будет Евгений Миронов, дико обрадовалась. Помню, как в первый съемочный день он сидел со мной рядом на гриме, в соседнем кресле, очень собранный и сконцентрированный. А я испытывала одновременно какие-то смешанные детские чувства. Радость, любопытство, страх и невероятный восторг от того, что буду работать с большим мастером.
Потом у нас было несколько минимальных пересечений в сценах. Я передавала книгу герою Миронова и сообщала, что один из участников процесса покончил с собой. Эту сцену мы снимали бесконечное количество раз, хотя я просто вбегала в кабинет и говорила: «Такой-то повесился». Но все время на разных планах — общем, среднем, крупном.
Во время одного из этих бесчисленных дублей Миронов пошутил: «Давай, давай, взбивай молоко». Евгений Витальевич для меня — пример чуткого отношения к профессии и роли. Знаете, иногда бывает достаточно просто находиться рядом с каким-то человеком, чтобы напитаться бесценными знаниями и опытом. Достаточно одного его присутствия.
— В театре вам не приходилось с ним работать?
— К сожалению, нет. Но он приходит на каждый выпуск, что всегда очень важно и ценно.
— Вскоре после «Нюрнберга» у вас случился еще один интересный и необычный фильм — триллер «Взаперти» производства Казахстана. Как вы оказались в казахском проекте?

— Меня нашли на сервисе по поиску актеров. Однажды написала девушка, представилась кастинг-директором этого проекта и попросила записать самопробы. В тот момент я летела в Берлин с одним спектаклем и пробы записывала уже в Германии. Меня утвердили удаленно, буквально после единственного телефонного разговора с режиссером.
— Это довольно мрачная мистическая история, происходящая непонятно где...
— В некоем условном провинциальном городке, в который приезжают современные столичные ребята на день рождения дедушки главной героини. Не буду раскрывать все тайны, скажу только, что в какой-то момент девушка оказывается в замкнутом пространстве — взаперти — с другом ее бойфренда, и на протяжении всего фильма они пытаются выбраться на свободу. Естественно, все это сопровождается различными перипетиями, любовными и детективными, и даже появлением призраков.
— У вас была еще одна детективная история — триллер «Белый список» Алисы Хазановой?
— Можно сказать, благодаря спектаклю «7 дней в совриске». Алиса там играла мою начальницу — директора музея, и, когда позднее начала снимать детективную драму, позвала меня на одну из ролей.
— Постойте, директора в этом спектакле ведь играла Нелли Уварова!
— В какой-то момент Алиса Хазанова была вынуждена уйти, и тогда ввели Нелли. Она, кстати, была моим кумиром в детстве благодаря сериалу «Не родись красивой». Все шутили, что я похожа на Катю Пушкареву.
— В прошлом году онлайн-кинотеатр Okko показал этнофэнтези «Молот ведьм». Там вы уже не просто какая-то милая девушка, а могущественная колдунья?
— Хозяйка стихий. Но в прошлом она была девушкой-медиумом по имени Катя, которую пригласили поучаствовать в научном эксперименте в местном НИИ. В ходе него в Катю вселилась древняя сущность, и она начала превращать жителей маленького города в леших и русалок, возводить вокруг него стену из борщевика.
— Кино играет важную роль в вашей жизни? Или театр все-таки важнее?
— Мне кажется, это неразрывные миры, и то и другое для меня — большая радость и возможность исследовать себя через какой-то материал, каждый раз разный. Поэтому невозможно отказаться ни от того, ни от другого. И в театре, и в кино ты ищешь точки соприкосновения с собой, сочувствуешь героям. Это, правда, часто ювелирная, тонкая работа, порой невидимая. Но если ты честен с собой, то в любом случае она открывает для тебя что-то новое, влияет в целом на восприятие. В «Цыганах. Улица Шекспира» это была очень осознанная работа.
— Наверное, вам повезло, ведь на этом сериале вы работали со знакомым режиссером, с которым уже сотрудничали в театре и были на одной волне?

— Конечно, с Даней Чащиным мне было комфортно, и он в меня верил. Мы слышали друг друга, работали в унисон. У Дани есть прекрасное качество — работая с актером, он как будто растворяется, но поддерживает тебя, и ты не думаешь, правильно ли выполнил задачу. Эта поддержка очень важна. Ты можешь импровизировать и заниматься творческим поиском.
— Какие проекты с вашим участием мы увидим в этом году?
— На Okko выйдет сериал «Разочарованные». Это история про трех девушек, пытающихся найти свою любовь в условиях новой этики, новых правил. Довольно ироничная.
— Еще одна вариация «Секса в большом городе»?
— В каком-то смысле. Этот легендарный проект породил огромное количество последователей.
— Вы поддерживаете связь с родным городом?
— Давно там не была. Хотя всегда на связи с близкими. Иногда бывает ностальгическое настроение, хочется пройтись где-нибудь в районе Центрального рынка, там, где трамвайные пути, барахолки и много колоритных персонажей. За что я обожаю этот город, так это за его понятность и одновременно странность и эклектику.


























